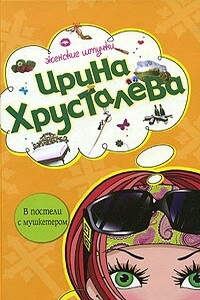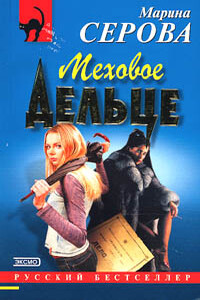Сочинять он начал еще в гимназии, но именно во время учебы в университете стал писать более или менее систематически, заполняя толстые тетради замыслами, конспектами характеров и набросками диалогов вперемешку с мнениями о прочитанных книгах и хозяйственными расходами. Через университетских знакомых Ергольский стал вхож в некоторые редакции, которым требовались рассказы и повести и которые были готовы рискнуть, напечатав дебютное произведение молодого автора. Матвей Ильич решил, что его время пришло, и немедля сел за работу. Он был так увлечен своим произведением, что нередко забывал поужинать. Вещь, которую он сочинял, должна была, по его мнению, стать новой вехой в русской литературе. (По молодости Ергольский не возражал бы, если бы его книга произвела переворот и в мировой литературе, но так как он был от природы скромен, то решил пока ограничиться родной словесностью.)
В мае он закончил черновой вариант и уехал отдохнуть в имение матери. От знакомого студента, начинающего журналиста Георгия Чаева, Матвей Ильич уже знал, что любой текст должен отлежаться перед правкой, чтобы его недостатки было легче заметить. В августе Ергольский вернулся в Петербург – вернулся, по сути, к своему произведению, мысль о котором не покидала его и во время отдыха. Однажды вечером он развернул заветную тетрадь, взял перо и…
И не узнал своего текста. Первая фраза была ужасна, первый абзац – еще хуже. Огромные корявые фразы, разбухшие от придаточных, налезали друг на друга, погребая авторскую мысль под грудой слов. То тут, то там возникали длиннейшие и подробнейшие описания пейзажей, без которых совершенно спокойно можно было обойтись. Героиня то славилась своим серьезным характером, то заливисто хохотала в ситуациях, в которых бедный Ергольский не видел теперь ничего смешного. Главный герой был напыщен, ходулен и даже хуже того – глуп как пробка. Коротко говоря, авторское бессилие сквозило в каждой странице, каждой строке и даже знаке препинания, потому что по молодости Матвей Ильич понаставил множество лишних восклицательных знаков и многоточий там, где опытный писатель наверняка ограничился бы просто точкой.
Ергольский провел ужасную ночь. Ворочаясь с боку на бок, Матвей Ильич менее всего думал о том, как он, начитанный, культурный человек, вроде бы неплохо разбирающийся в литературе, мог породить этакое недоразумение. Речь, в сущности, шла о другом – о том, может ли он вообще сочинять. Вопрос этот имел для Ергольского такую важность, что он всерьез стал рассматривать возможность самоубийства, если вдруг окажется, что писателем ему не быть.
В то время он для заработка сочинял небольшие статьи для газеты, в которую его привел Георгий Чаев. Угодить редактору было нелегко, и порой Ергольскому приходилось задерживаться в редакции, чтобы переписать заметку так, чтобы ее утвердили. Однажды, когда Матвей Ильич, в глубине души проклиная все на свете, на краешке стола перекраивал статью, в которой следовало по-новому подать чрезвычайно старую и зажеванную мысль, в редакции появилось Очень Значительное Лицо. Лицо это было известным писателем и имело облик господина с щегольской тростью, в элегантном пальто, барашковой шапке и покрытых густейшей петербургской грязью калошах. Точности ради стоит отметить, что лицо было слегка под хмельком и явилось сюда с одной-единственной целью – выцарапать из редактора гонорар, который тот по интеллигентской привычке запамятовал выплатить.
Так как известный писатель имел репутацию скандалиста (не исключено, что как раз потому, что не стеснялся требовать то, что ему причиталось), редакционные работники благоразумно предпочли при его появлении испариться. Посетитель рухнул в кресло напротив Ергольского, который, забыв о своей статье, смотрел на него во все глаза. Несколько секунд подвигав губами, известный писатель наконец осведомился (судя по всему, у шкафа в углу), где тот подлец, который зажал его гонорар.
– В-вы Иван Степанович? – несмело спросил Ергольский.
Известный писатель перевел на него тяжелый взгляд и громко вздохнул.