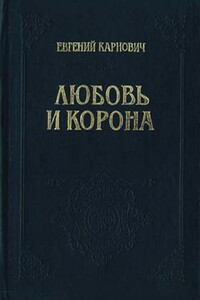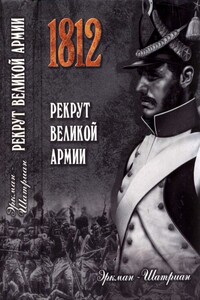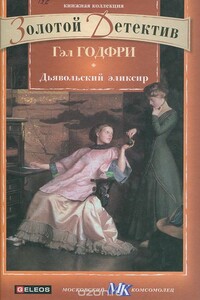Мы были еще на пути в Пфальцбург, когда весть об этих злодеяниях уже разнеслась повсюду.
Много кричали о сентябрьской резне[115] и осужденных 93-го года[116], и правильно: это было противно природе. Но начало положили дворяне. В этом-то и беда. Те, кто умоляют пощадить близких или их самих, прежде всего должны были в свое время щадить других и не быть жестокими, одерживая победу.
Итак, пленные вереницей двигались между двумя рядами наших штыков. Мы шагали, а вокруг царила глубокая тишина: двери и окна домов были наглухо заперты, как в тюрьме. Иначе дело обстояло в разграбленных жилищах — там настежь были отворены разбитые двери и ставни.
Нами командовал Жан Леру. Раза два-три мельком он посматривал на меня; по выражению его глаз я видел, что он полон ужаса и сострадания. Но что нам было делать? Хозяином положения был Буйе. Приходилось повиноваться.
Несчастные пленники, которых мы конвоировали, были полураздеты — кто был без куртки, кто — без рубахи; у кого была забинтована голова, у кого — рука на перевязи; они смотрели в землю помутившимся взором; из груди у них порою вырывался вздох — так вздыхает человек, страшась конца, сознавая, что надежды на избавление нет, что дома осталась старуха мать или жена с ребятишками, что, осиротев, они погибнут. Вот отчего они так вздыхали — судорожно и чуть слышно. Иных колотила дрожь. И тот, кто слышал эти вздохи, понимал страдальцев, и если мог бы, то отпустил бы с превеликой радостью.
Понятно, что теперь я уже не обращал внимания на улицы, тем более что на дороге лежали убитые солдаты, мужчины и женщины — страдальцы, распростертые в лужах крови. Приходилось перешагивать через трупы… Мы содрогались от ужаса. Кое-кто из пленных — самые мужественные, оборачивались и вглядывались в мертвецов, стараясь опознать погибшего товарища и проститься с ним.
На небольшой площади разнузданные лошади подбирали сено с земли, а поодаль, на куче соломы, спали гусары Лаузенского полка. Вот и все, что мне запомнилось от дороги, да еще, правда, обширное здание мэрии, окна которой блестели в лучах восходящего солнца. Офицеры сновали по лестнице, ведущей к великолепным дверям, внизу стояли в ожидании приказов несколько конных нарочных.
Два льежских батальона расположились биваком на площади. Небо посветлело; на нем еще блестели звезды.
В ту минуту, когда мы проходили под аркой, напоминавшей триумфальную, нас снова окликнули:
— Ver da? Ver da?
Это был кавалерист, стоявший на посту близ тюрьмы, окруженной рвами. Тотчас же к нему подошел майор, сопровождавший нас вместе с офицером городской стражи. Он сказал, кто мы. Мы вышли на другую площадь, окруженную деревьями в три ряда. Телеги остановились у здания, смахивающего на лазарет, с окнами, забранными решеткой в виде корзины. Пока телеги въезжали в сводчатые ворота, я узнал, что тюрьму охраняет караул из солдат Королевского немецкого полка.
Представьте мое смятение, когда я узнал, что Никола тут, в Нанси! Вспомнилось его письмо, и мне пришло в голову, что мой злополучный брат и здесь перебил людей во имя дисциплины, как в Париже. Не хотелось мне с ним встречаться. Но когда выгружали раненых, я подумал, что он ведь тоже мог получить увечье, и это меня смягчило — ведь мы как-никак братья. Было время, когда он меня поддерживал, да и родители были бы очень огорчены, узнав, что мы с Никола были так близко друг от друга и не обнялись, даже не поздоровались.
И, забыв обо всем, я подошел к первому попавшемуся часовому и спросил, не знает ли он Никола Бастьена, бригадира третьего эскадрона Королевского немецкого полка. А часовой, узнав, что я брат Никола, ответил, что знает его отлично, что мне нужно лишь спуститься по одной из улочек напротив, до Новой заставы, где накануне Королевский немецкий полк напал на неприятеля, и всяк, кто служит в эскадроне, проведет меня к нему.
Дядюшка Жан был очень недоволен, узнав, что я хочу проведать Никола.
— Вот беда, что нам пришлось соединиться с этими злодеями, — говорил он. — Пожалуй, люди подумают, что солдаты национальной гвардии поддерживали немцев в преследовании патриотов, еще пропечатают об этом во всех своих газетах! Вот ведь беда!