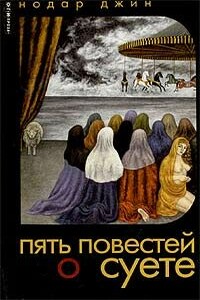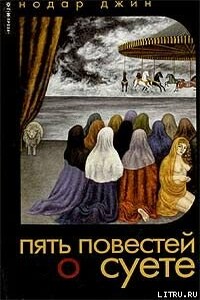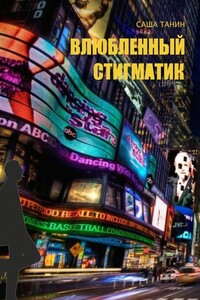Вскоре Мишель пригнулась ко мне ниже, обхватила гайку всеми пятью пальцами и напрягла кисть сильнее. После двух дополнительных тугих оборотов гайка застопорилась, но потом вдруг — вместе с коротким скрежетом металла раздался звонкий треск лопнувшей кости, и из расколовшейся по желобку макушки в подставленную ладонь выскочил гладкий комок ослепительной белизны. Не разгибаясь, Мишель выхватила правой рукой из кармана ножницы и чиркнула ими сперва по двум сонным артериям под колобком, а потом стала возиться с двумя толстыми приводами, соединявшими его с туловищем. Приводы упрямились и выскальзывали из прикуса. Напряжение разрядил писк Панасоника. Не разгибаясь, Мишель дотянулась ножничным мыском до кнопки на аппарате.
— Ты? — выдохнул телефон.
— Стив! — вздохнула Мишель. — Слава Богу!
— Почему такой голос? — встревожился Стив. — Одна?
— Поза такая: с мозгом работаю. Ножницами.
— Ножиком надо!
— Знаю. Просто загадала: если удастся ножницами, — значит «да», а нет, — значит, «нет».
— Опять эти глупости! А что сейчас?
— «Да» — это позвонишь, «нет» — не позвонишь.
— Сказал — значит позвоню! — кашлянул Стив с достоинством. — Я тебе не Аскинази!
— Напоминаю еще раз: сам женат! Уехала-таки она или нет?
— Звоню с вокзала! Еду домой и мариную шницель!
— Я не буду мяса: не могу после работы.
— Опять эти глупости!
— Я к тебе не за этим еду, — и стала сразу доброй и веселой. — Я, кстати, была в «Саксе»: платье купила; помнишь, тебе понравилось?
— Тебе больше идет когда ты голая.
Мишель молчала.
— Я платье это сразу с тебя сниму, запомни! А потом положу тебя на ковер; не на тот, — жена его скатала, — а на другой, с оленями… Животом вниз, поняла? И начну дышать в затылок… А потом покрою маслом; новое миндаль с мускусом.
— О-о-ой! — застонала Мишель. — Нет, я не про это. Он опять почти уже — и выскочил!
— Выбрось, говорю, ножницы на хуй! — сорвался Стив. — Я говорю такие слова, я поэт, а — ты! Возьми нож!
Она схватила скальпель и полоснула им по последнему шнуру:
— Все! Подожди секунду: отключу монитор и возьму трубку.
— Кто-нибудь пришел? — всполошился Стив.
— Не в этом дело… Такая обстановка, а ты — эти слова…
Освободив правую руку от скальпеля, Мишель поднесла ее к левой, и белый груз распределился теперь поровну на ладонях, которые она осторожно потянула на себя и развернулась к каталке. В глубоком основании опустевшего черепа я разглядел темную лужицу крови, припудренную костяными крошками. После долгого шока я перенес взгляд на извлеченный оттуда шарик, покоившийся уже в эмалированном тазике на каталке. Мишель теребила его пальцем с кизиловым наконечником маникюра и так же легонько пальцем другой руки поглаживала ствол телефонной трубки, через который, увлажненные мускусно-миндалевым маслом, скользили и набивались в ее ухо слова. В ее крохотной ушной раковине все они уместиться не могли: тыркались там друг в друга и, извиваясь, проникали сквозь ушной канал в распалявшиеся недра женской плоти. Когда они заполнили собой ее всю, Мишель сперва перестала теребить шарик в тазике, а потом вовсе отняла от него руку, и, отвернувшись, расстегнула на халате нижние пуговицы. Потом, судя по дыханию и изгибу туловища, запустила руку себе между ног и — не просто отодвинувшись, а отрекшись от меня — вошла ею в свой организм.
Во всем помещении развернулась странная тишина. Поначалу я объяснил это близостью женского организма, нагнетавшего в своих недрах ту неостановимую энергию, в ожидании выплеска которой все умолкает. Скоро, однако, мною овладела энергия самой тишины, наполненной не отсутствием звуков, а присутствием их небытия.
Она овладела мною так же просто, как пространством вокруг, — не вошла в меня, но стала во мне быть, и с поразительной четкостью я начал вдруг осязать свое несуществование; не уход из бытия, а мою наполненность небытием. Наступило состояние моего пронзительного отсутствия, похожее на ощущение онемевшей после сна руки, когда ею чувствуешь ее же мучительную неспособность осязать.
Именно это я и чувствовал теперь: агрессивное отсутствие. Ужас усугублялся тем, что отсутствовал я в столь же агрессивно отсутствовавшем. Я ощущал себя прорехой в сплошной прорехе. Все отсутствовало, все было ничто, — и меня заносило в это состояние, как воздух в воздушную яму. Но в этой яме мне было очень уютно и привычно, — как если бы через долгое время я вновь узнал что знал всегда: несуществование доступно ощущениям, как существование, а жизнь — это вспышка сознания, высвечивающая порожность мира, его наполненность вездесущим Богом, который, будучи началом и концом сущего, есть ничто. Страх перед смертью и страх перед Богом — один страх, и это понимание опять же показалось мне знакомым. Бог есть то, от чего я всегда бежал в неосознанной панике, хотя мне и казалось, будто я, напротив, стремлюсь к Нему и хотя невозможно избавиться от того, чего нет; от того, что есть лишь зыбкая метафора той смутной догадки, согласно которой смерть есть мука несуществования, ужас отсутствия, а жизнь — нескончаемая агония страха перед болью небытия. Из агонии выход один — в ничто, хотя, ослепленные ужасом и отупевшие от него, мы в одиночку и в отчаянии восстаем против этого, как в одиночку и отчаянно сразился с Богом библейский Яков. Ничто — это ни отрицание, ни утверждение; оно предшествует смыслу так же, как предшествует смыслу существование…