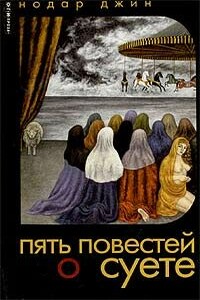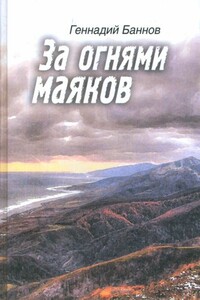Я сложил треножник, убрал камеру, и мне стало легче, — просторней внутри. Не хотелось больше хорониться за холодным видоискателем и останавливать мгновения. Всякое остановленное мгновение, обрывая связь с предыдущим и последующим, обрекает их на забвение, тогда как само по себе порождает потом — в памяти или на фотобумаге — усмешку. Только душа не позволяет рассекать время, и потому только в ней не пропадает ни одно из мгновений: каждое новое сливается с прошедшим и с будущим. Потому и только душа никогда ни над чем не издевается, и все на свете — все пространство и все время — роднит в сплошной, нерасчленяемой на части, любви.
Отделившись от камеры, я закрыл глаза, — и в душе моей стал проступать сквозь мрак знакомый мне с детства мир, очарованный гулом молитвенных завываний. Глубоко внутри завязалось желание ощутить связь не только между мгновениями, скопившимися в моей душе за всю жизнь, но также между этими мгновениями и временем, не связанным со мной. Эта тоска была мне не вновь, и я затаился в ожидании знакомого удушья, — когда уже не вздохнуть без всплеска того жизнетворного страха за себя, из которого возникает молитва.
19. Для чего синему цвету быть синее себя?
Молиться я начал в детстве, но если наступление зрелости совпадает с возрождением ребяческих страхов, я созрел не раньше, чем поселился в Америке. Эти страхи возродились с наступлением поры поражений, в которую меня заманил рассудок, научившийся издеваться надо всем и отшатнувшийся, наконец, от меня самого. Энергия самоотрицания обрела такую силу, что появилось желание родиться обратно и жить оттуда. Вместо этого я угодил с инфарктом в больницу, где больше всего обескуражило меня коварство того же рассудка: если раньше он кокетливо твердил, будто смерть — лишь смена окружения, то теперь вдруг признался, что живым из наличного окружения в потустороннее мне не выбраться. Я запаниковал. Вместо восторга по поводу приближения нового мира меня захлестнуло соленой волной ностальгии, горького понимания, что покидаемый мир, если исключить из него людей, не так уж и плох, как казался. Я решил не принимать снотворного. Из недоверия не столько к злым сестрам милосердия, сколько к потустороннему миру, в котором, скорее всего, предстояло проснуться.
Провалялся всю ночь в темноте с открытыми глазами и, превозмогая резь в грудине, прикрывался от боли картинками из своей жизни, словно решил отобрать из них те, которые стоило провести контрабандой через таможню смерти. Выяснилось, что, хотя, подобно молитвам, жизнь состоит из сплошных глупостей, прихватить следовало все! Вспомнился, например, невозможно синий свет, когда впервые в жизни я увидел море. Оправившись от онемения, понял, что никогда бы не догадался о способности синего цвета быть другим, невозможно синим, цветом без названия. Мне казалось до этого, будто всему зримому есть название, ибо глаза способны видеть только то, о чем может поведать язык. Вспомнился и вопрос, который я задал себе тогда: для чего синему цвету быть синее себя? Ответ пришел через много лет, когда, вернувшись к морю, я положил себя животом у кромки прибоя, вперился глазами в разлив синей краски по горизонту и замер. Сначала — ничего: невозможная синь и смутное ощущение, что это хорошо. Потом — то же самое: ничего, и ничего, и то же щемящее душу ощущение внедряемости в синеющую синеву. Но я не отворачивался, и, наконец, непонятно как завязалась печаль.
Бессмысленность печальных образов, из которых состояло мое прошлое, только радовала, ибо на ее фоне страх перед приблизившейся смертью показался тоже бессмысленным. Я даже сообразил, будто смерть — это лишь расставание с будущим, единственное достоинство которого заключается в том, что оно не случалось и с которым поэтому, в отличие от прошлого, не связывает печаль. Я обрадовался этой находке, но с каждым мгновением какая-то сила нагнетала во мне панический страх конца. Его настойчивость удивила: бессмысленность жизни не только не спасает от ужаса перед ее концом, но, наоборот, нагнетает этот ужас.
Отвернуться от него в палате было некуда: низкий потолок выглядел изнанкой прихлопнувшей меня крышки. Капельница у кровати пугала схожестью со скелетом обезглавленной цапли, а справа, в зловещем прищуре окна, на фоне грязного неба с черными обмылками, сновали два серых комка проснувшихся голубей. Тесное пространство между окном и бетонной стеной соседнего корпуса больницы, в котором располагался морг, было отчеркнуто вверху ржавой сеткой с приставшими к ней клочьями голубиного пуха. Опустившись на выступ за окном, птицы уставились на меня и принялись громко скулить, — как люди от сердечной боли. Я закрыл глаза и решил дождаться рассвета в надежде, будто утро отменяет не только ночные картины, но и кошмарную правду, что в конце существования нет ничего кроме конца существования, и что жизнь существует для того, чтобы закончиться, и что расставаться с существованием невыносимо, поскольку кроме него ничего нет.