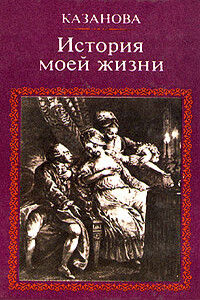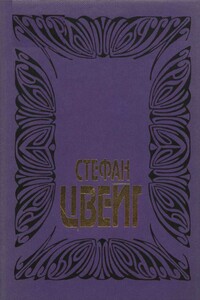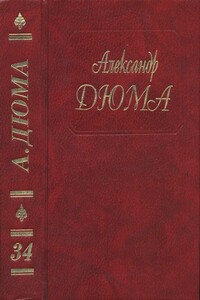История моего бегства из венецианской тюрьмы, именуемой Пьомби - страница 7
Я облокотился на основание решетки, имевшее два фута во всех измерениях; его пересекали шесть железных прутьев диаметром в один дюйм, образовывавших шестнадцать квадратных отверстий по пять дюймов каждый. Через решетку могло бы проходить достаточно света, если бы полуторафутовая четырехугольная поддерживающая кровлю балка, которая входила в стену под слуховым окном, находящимся наискосок от меня, не заслоняла свет, проникающий на чердак. Я обошел мою ужасную темницу, имевшую всего пять с половиной футов в высоту, для чего мне пришлось слегка пригнуться. Почти ощупью обследовав ее, я понял, что она представляет собой примерно три четверти от квадрата в два туаза длиной и шириной. Оставшаяся примыкающая к ней четверть, несомненно, служила альковом, где можно было бы разместить кровать; но я не обнаружил ни кровати, ни стула, ни стола, ни какой-либо другой мебели, за исключением ведра для отправления естественных нужд и доски шириной в один фут, прикрепленной к стене на высоте четырех футов над полом. Я положил на нее свой роскошный шелковый плащ, красивый костюм, который столь неудачно обновил, и шляпу, украшенную белым плюмажем и испанским кружевом. Жара стояла невыносимая. Погрузившись в меланхолию, я предавался раздумьям и инстинктивно подошел к единственному месту, где можно было опереться на локти; я не видел слухового окна, но различал падавший из него свет, который освещал чердак и толстых, как кролики, крыс, которые там разгуливали. Эти мерзкие животные, внушавшие мне отвращение, подходили к самой моей решетке, не выказывая ни тени страха. Я быстро прикрыл отверстие посреди двери внутренним ставнем; их присутствие наводило на меня леденящий ужас. Я погрузился в глубокую задумчивость, по-прежнему стоя скрестив руки на уровне основания решетки, и так в неподвижности простоял целых восемь часов, в полной тишине, даже не шелохнувшись.
Я слышал, как пробило двадцать один час[29], и стал тревожиться, что никто не приходит ко мне, никто не желает осведомиться, не проголодался ли я, никто не приносит ни кровати, ни стула, ни даже хлеба и воды. Аппетита у меня не было, но никто другой, как мне казалось, не мог об этом догадываться. Ни разу в жизни у меня не было такой горечи во рту; и все-таки я не сомневался в том, что к концу дня кто-нибудь сюда придет, но когда я услышал, как пробило двадцать четыре часа, на меня нашло какое-то безумие, я принялся вопить, топал ногами, бранился, сопровождая все это истошными криками, — производил весь тот бесполезный шум, к которому вынуждало меня мое странное положение. Проведя более часа в этих неистовых упражнениях, не увидев ни души и не услышав никаких признаков того, что мой приступ ярости был замечен, оставшись в кромешной тьме, я закрыл решетку, опасаясь, что крысы могут проникнуть в камеру, повязал голову носовым платком и ничком улегся на пол. Мне казалось немыслимым, что меня так безжалостно бросили на произвол судьбы, вероятно решив обречь на верную смерть. Раздумья над тем, что же я мог такого сделать, чтобы заслужить подобное жестокое обращение, длились лишь мгновение, поскольку я по-прежнему не видел повода для моего ареста. Я не усматривал большой вины в том, что прожигал жизнь, открыто высказывал свои мысли и искал лишь удовольствия, но понимал, что именно в этом меня и обвиняли; избавлю читателя от пересказа того, что я думал и произносил, обуреваемый бешенством, яростью и отчаянием, вызванными совершенным против меня произволом. Однако ни черная злоба, ни снедавшая меня тоска, ни жесткий тюремный пол не помешали мне погрузиться в сон: мой организм нуждался в нем, а поскольку он был молодым и здоровым, то мог взять от природы что мне требовалось, даже не выспрашивая на то моего согласия.