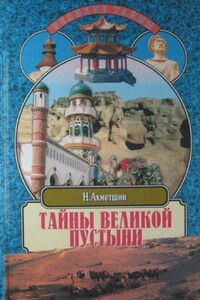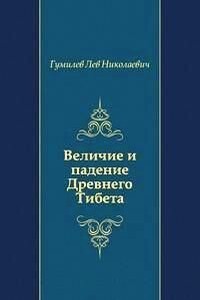Внешне единая структура в форме великокняжеского домена охватывала почти всю Восточную и Центральную Литву. Великокняжеской администрации практически не было в Жямайтии, располагавшей широкой автономией. Исключением была опорная резиденция субмонарха, но во второй половине XIV в. и её не /95/ стало. Зато недвусмысленно проявилась прямая зависимость жямайтов от правителя Тракай, а не от великого князя. Автономия всей Жямайтии опиралась на автономию ее земель, поскольку в крае не было ни официального центра, ни объединяющих органов. Огромную, если не решающую, роль в XIV в. стала играть земля Мядининкай и замок Мядвегалис, возвысившиеся как новая территориальная структура. Самостоятельная Шяуляйская земля во второй половине XIV в. попала под сильное влияние великого князя, заметно проредившего ее знать и отделившего южную окраину (современные Титувенай). Сбор войска в Жямайтии объявлял не великий (или тракайский) князь, а сход ее земельных вельмож, не имевший строго обозначенных прерогатив и постоянного состава. Еще в XVI в. действовал обычай, согласно которому жямайты не могли быть удаляемы из территориального войска для выполнения особых военных заданий.
По сути не был целостным и сам великокняжеский домен. В долине Нявежиса замки были редкостью. Бывшая Нальшя носила характерное название Завелье («за Вилией», по-литовски «Užnerys», т. е. местность за р. Нярис), а ее воинские контингенты пользовались той же привилегией неразделимости, что и жямайты. Главной хозяйственной базой являлся домен времен Миндовга – на юг от р. Нярис. Еще в конце XIV в. Нярис называли границей Литовской земли (в узком смысле).
Закрепление «полей» и рост административных пунктов имели еще одно следствие: возникали новые феодальные центры. Их возвышение совпало с выделением субмонарха из окружения государя. Резиденции монарха в Вильнюсе и субмонарха в Тракай (Троки) стали центрами двух отдельных княжеств, на которые раскололся великокняжеский домен. Тракай были отдельным княжеством уже в тридцатых годах XIV в. Его привилегированный статус полностью установился в годы правления сына Гедимина – Кейстута (Kęstutis, после 1337 г.). Родню Кейстута нельзя было удалить из ее княжества. В Тракайское княжество был включен г. Гродно и /96/ вновь приобретенные Брестская земля и Подляшье. В этнической Литве ему принадлежали долина Нявежиса, значительная часть земли Упите, система замков на нижнем Немане, Занеманье, западная и южная части домена Миндовга. В середине XIV в. как отдельные центры стали выдвигаться Крево и Кярнаве, но этот процесс не достиг завершения.
Ближайшие русские земли были интегрированы в великокняжеский домен. На границе Полоцкого княжества их центром был Браслав (Бреславль, или Брячиславль; Brėslauja), на юго-востоке – Минск. Важнейшим присоединенным центром был Новгородок (Новогрудок). Правда, он, как и Крево или Кярнаве, временно становился владением отдельного члена династии. Еще более прочно были встроены в домен Волковыск и Слоним. Сложилась т. н. зона литовской Руси, в которой имелись литовские и ятвяжские этнические островки, но не крестьяне определяли степень этнической дифференциации. Однако в Черной Руси рядом с прусскими возникли литовские военные колонии. Русские военно-служилые люди были вовлечены в управление государством. Всё это на протяжении XIV в. крепко привязало литовскую Русь к домену.
В XIV в. Литовское государство увеличилось в несколько раз за счет присоединения обширных русских пространств. От Полоцка на востоке и от Турова, Пинска, Слуцка на юге начинался ареал вассальных княжеств, составлявший огромную часть территории и населения государства. Со времен Гедимина в титул князя часто включалось упоминание «русский». Крупными русскими княжествами завладели Гедиминовичи, в мелких остались местные русские князья. Гедиминовичи и их дружинники принимали православную веру и быстро находили общий язык с русской знатью и православным духовенством. Важнейшими вассальными повинностями были дань, участие в военных действиях и совете при великом князе (если на него приглашали). Сохранились границы княжеств и вся структура управления (это означало, что литовцы не меняли привычного порядка – «старины»). Уже не было произвола золотоордынских баскаков и отдельных татарских военачальников, хотя дань Золотой Орде осталась, поскольку в этих землях признавался ее сюзеренитет. Эти изменения устраивали русскую знать, крестьян и горожан. Поскольку каждое русское княжество зависело от Вильнюса по отдельности, конгломерат русских земель не стал противовесом литовскому домену и Жямайтии. В подобной политической системе Вильнюс очевидно доминировал.