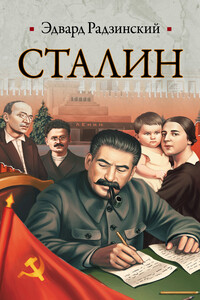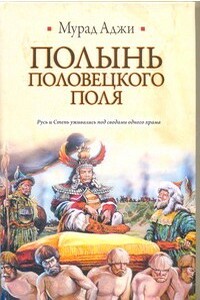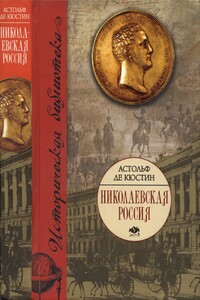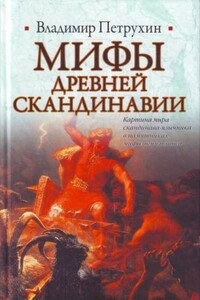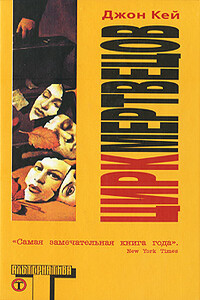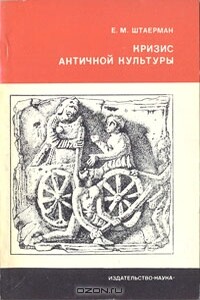Хараппцы, вынырнувшие из забвения с помощью археологической лопатки, быстро привлекли внимание ученых всех мыслимых профессий и щедрые субсидии на проведение исследований, благодаря чему объем знаний о них рос столь же быстро, как когда-то их империя. Арии же, люди из того богатейшего санскритского литературного наследия, из которого традиционно черпались все представления о Древней Индии, оказались в тени. Сильно дискредитированные борьбой европейских держав за первенство в XIX веке и попыткой использовать их в новой тевтонской идеологии 1930-х годов, могущественные арии утратили благосклонный интерес академической науки. Вопросы, которые среди раннего поколения ученых считались бы совершенно еретическими, снова стали подниматься: а кто были эти арья, откуда они пришли и даже были ли они. собственно, народом?
«Сомнительно, чтобы термин «арья» когда-либо использовался в этническом смысле», — пишет Ромила Тхапар, специалист по истории Древней Индии>{15}. То. что она называет «арийской проблемой» или «мифом», сейчас стало «наверное, самым главным вопросом, заставляющим историков Индии идти по ложному следу»>{16}. При этом подлинность всех санскритских сочинений сомнению не подвергается. Никто не сомневается и в важнейшей роли ариев в социальном, культурном и религиозном развитии Индии. Вопрос в другом: были ли те, кто создал эти тексты, чем-то большим, чем просто этническим меньшинством, обладающим сильным чувством собственного достоинства и старающимся всеми силами сохранить свои отличия, главным образом языковые, среди окружавших их народов?
Для индусов, конечно, традиции санскритской литературы остаются священными и неприкосновенными. Ведийские молитвы до сих пор читаются жрецами, а санскритский эпос стал сюжетом телевизионных сериалов, заставляющих весь индийский народ надолго замирать перед экраном. Сочинения древних ариев — не просто история, они ближе к божественным откровениям. Однако сами арии в них не упоминаются. Они нигде не выступают как божественные избранники. В этих книгах с большим уважением описано множество жрецов, героев, святых, божеств — но без всяких указаний на их этническую принадлежность. Это не удивительно, так как в санскрите слово «арья» в основном используется как прилагательное. Некий народ или класс когда-то использовал его, чтобы отделить себя от других, что естественно. Но с течением столетий значение слова меняется, и установить, что оно означало исходно, ныне затруднительно. Его переводят и как «чистый», и как «уважаемый», и как «духовный», «благородный», «состоятельный»… Со временем это слово совершило путешествие через всю Индию и достигло земли, которая сегодня называется Индонезией, где превратилось просто в вежливую форму обращения, вроде «сахиб» или «мистер».
С другой стороны, «арии» как самоназвание определенной расы или народа, к которому относилось прилагательное «арья», в санскритской литературе вообще не встречается. Они появились только тогда, когда с этой литературой начали работать европейцы. А европейцев привлекало и вдохновляло не столько содержание этой литературы, сколько сам язык, на котором она написана.
То, что многие санскритские слова удивительно похожи на греческие и латинские, было замечено давно. Еще в 1785 году англичанин сэр Уильям Джонс, «один из самых просвещенных сынов человеческих» (как писал восхищавшийся им доктор Джонсон), начал изучать санскрит. Годом позже он вынес предварительное заключение об этом языке: «У него чудесная структура, он более совершенен, чем греческий, и более богат словами, чем латинский. <…> Хотя с обоими языками он имеет столь большое сходство, как в корнях глаголов, так и в грамматике, какое вряд ли может возникнуть случайно. Ни один филолог не сможет изучать эти языки без убеждения в том, что все они произошли из одного общего источника, ныне, возможно, не существующего»>{17}.
Действительно, большинство языков северной Индии, восходящих к санскриту, сопоставимы с европейскими, восходящими к латинскому. Джонс совершенно правильно добавил к той же языковой семье германский и кельтский языки, а также древний персидский (авестийский). Но сам он. больше очарованный содержанием санскритской литературы, чем ее языком, не стал заниматься поисками «общего источника». Джонс предоставил это другим, тем, кто увидел в его провидческих мыслях не только собственно проблему — найти «общий источник» и очертить его распространение, — но и пути ее решения. Джонс показал, что изучение языка, филология, может дать историку не меньше, чем археология. Располагая большим количеством текстов, тщательно изучая синтаксис, разбирая слова по слогам, чтобы понять порядок словоизменения и грамматику, находя общие корни, новые конструкции и отмечая внешние влияния, филолог может выявить правила, по которым язык развивался и распространялся.