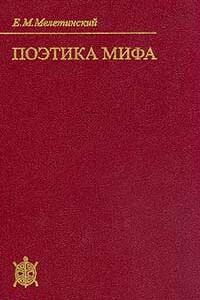У героев Клейста защита своей чести совпадала с требованиями кантовского категорического императива, с которым иногда коррелировала смутно намеченная божественная воля (не совпадавшая с мнением света или народной толпы). В новелле Брентано настойчивое стремление Каспера строго формально защитить свою честь приводит его сначала к выдаче суду отца и брата, похитивших его коня (доверенного ему за безупречную службу в армии), а затем к самоубийству из-за позора быть сыном и братом разбойников. На свой лад честью руководится и Аннерль, которой Гроссингер сначала внушает, что Каспер ее покинул, а затем соблазняет. Она поддалась ему из честолюбия, но, будучи обманута, опять же ради чести задушила своего младенца и ради чести не назвала имени соблазнителя. Герцогское помилование, которое выхлопотал писатель, не успело помешать казни бедной Аннерль. Только сам герцог под впечатлением случившегося решается узаконить свою связь с сестрой Гроссингера. Мудрая старуха (и Брентано ее устами) осуждает эту героическую заботу о своей чести: «чести было слишком много», «честь воздавай одному богу». Их честь беспокоит ее совершенно по-другому: она даже не борется за спасение жизни Аннерль, но добивается похорон обоих жертв строго по религиозному обряду для спасения их душ. Вместо клейстовской (и кантовской) абстрактной морали и их защиты путем индивидуального подвига эмансипированной личности Брентано требует покорного ожидания Страшного суда, немудреной «народной» конфессиональной религиозности, воплощенной в образе старухи. И этот религиозный пафос, и сам народный облик старухи, поющей песни и т. д. (противостоящий писателю, думающему о спасении жизни, а не души Аннерль), соответствуют идеалам гейдельбергских романтиков. Соответственно и некоторый фантастический элемент, включенный Брентано в эту новеллу, в отличие от Клейста и от Тика с его вольной игрой воображения, сведен к реализации традиционного народного суеверия: топор палача дважды реагирует на присутствие Аннерль и тем самым предрекает ей смерть на плахе. Вместе с тем, гак же как у Клейста, Тика и других романтиков, и здесь душевный склад и внутреннее состояние героев отчетливо сопряжены с их судьбой и с характером внешнего действия.
Творчество великого Э. Т. А. Гофмана демонстрирует все те трансформации новеллы, которые порождаются романтическим миросозерцанием и романтическим стилем. Мы находим у него огромное разнообразие странных происшествий, которые происходят главным образом со странными людьми (в силу их наивного чудачества, художественной интуиции, демонических страстей или способностей, вмешательства сверхъестественного начала). Фантастика присутствует в большинстве произведений Гофмана, дается в ключе то мрачной «готики, то нежного юмора, то очень серьезно, то крайне иронически. Как известно, ярчайшей чертой гофмановского метода является фантастика реальной жизни, включая гротескное изображение проявлений жизненной прозы и пошлости. Сочетание фантастики с юмором, осмеяние пошлости, мотив фантастической компенсации чистого, наивно-чудаковатого героя, фигуры неких волшебников, астрологов, алхимиков и т. д., так же как большой диапазон жанровых модификаций, отдаленно напоминают рассмотренную нами ранее фантастическую китайскую новеллу Пу Сунлина, который, конечно, еще не был никаким «романтиком». Среди множества существенных отличий этих авторов следует особо подчеркнуть, что фантастика Пу Сунлина была частично ироническим отражением традиционных мифологических представлений и суеверий, а у Гофмана фантастика в основном является плодом индивидуального вымысла и, несмотря на романтическую иронию, имеет характер некоего неомифологизма. В этом смысле Гофман отличен не только от старинной китайской новеллы, но и от своих современников — гейдельбергских романтиков. А в своей исключительной привязанности к фантастике и одновременно иронической бытовой приземленности и в вытекающих отсюда вольных жанровых модификациях широкого диапазона новеллистика Гофмана представляет полюс, противоположный строгой новеллистике Клейста.