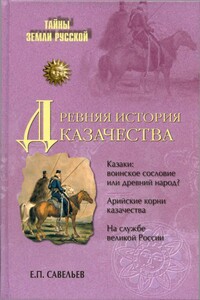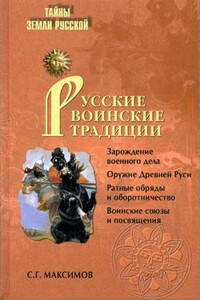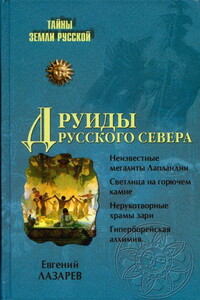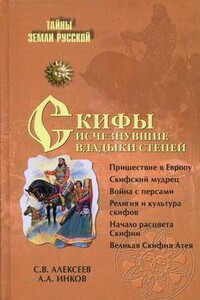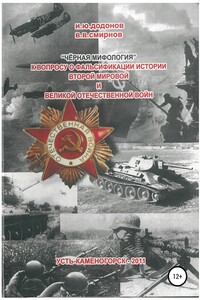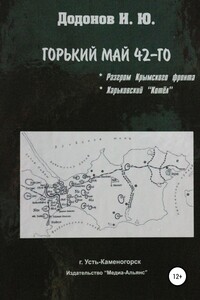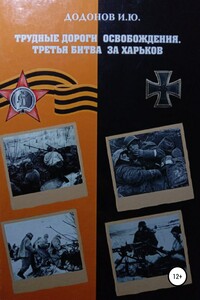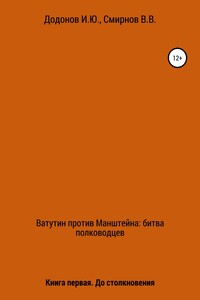Подобную переработку, с одной стороны, протокириллицы, с другой — уже существовавшей глаголицы ученики Кирилла и Мефодия, создававшие их «Жития», вполне могли принять за создание славянского алфавита. Тем более что именно кириллицу Константин привёз в Моравию как официальную азбуку. Вероятно, переработка осуществлялась уже после приезда моравского посольства, в связи с ним, точнее, с миссионерским заданием, которое получил Константин от императора Михаила и патриарха Фотия. Хотя какую-то предварительную работу в этом направлении Константин мог проделать, да и наверняка проделал, и ранее. Как бы там ни было, но всё это хорошо объясняет тот короткий срок, в который славянская азбука была создана.
Но что же глаголица? Её Константин также привёз в Моравию. Как говорится, про запас. И, как оказалось, не зря. Учитывая те сложные условия, в которых протекала деятельность солунских братьев в Моравии, препятствия, чинимые немецким духовенством, вполне можно предположить, что глаголица использовалась Константином и Мефодием как тайнопись, в секрет которой были посвящены только их ученики. Впоследствии, после смерти Мефодия в 885 году, когда гонения на славянскую письменность стали усиливаться, ученики могли предпринять отчаянную попытку спасти дело своих учителей, т. е. вывести славянскую письменность из-под удара: глаголица была переведена ими в разряд официальной, общеупотребительной азбуки. К такому шагу их подтолкнула непохожесть глаголических букв на греческие. Ведь схожесть букв кириллицы с византийским уставом, безусловно, воспринималась ориентированным на Рим немецким духовенством как признак церковного присутствия Константинополя в том регионе, который они считали своей вотчиной, своей сферой влияния. А это действовало на немцев, как «красная тряпка на быка».
Вполне объяснимо, почему данный шаг учеников Константина и Мефодия не нашёл отражения в письменных источниках того времени. Уж больно мал был срок до изгнания учеников из Моравии в 886 году, а поэтому мало было сделано в данном направлении, т. е. переписка книг новым шрифтом только начиналась, только начиналось переучивание учеников в школах. Когда же в 886 году последовало изгнание, то данное событие заслонило собой переход к другой азбуке.
Хочется заметить, что в некоторой степени схожую трактовку использования (но не возникновения) кириллицы и глаголицы мы обнаружили и у Г. В. Вернадского в его работе «Древняя Русь». Г. В. Вернадский очень оригинально подходит к решению вопроса о «русских письменах» «Жития Кирилла». В соответствии со своей исторической концепцией он считает, что «Евангелие» и «Псалтирь», которые Константин нашёл в Херсонесе, были действительно на русском языке (языке южной руси, асов), но написаны адаптированным к этому языку армянским или грузинским шрифтом (II, 19; 352). Один из этих алфавитов, по мнению Г. В. Вернадского, является источником глаголицы. Поэтому Г. В. Вернадский готов допустить, что «русские буквы» «Жития» — это глаголица и Константин изобрёл кириллицу (II, 19; 358). А далее процитируем: «Как объяснить употребление глаголицы как второго из двух ранних славянских алфавитов? Можно думать, что, изобретая кириллицу для общего употребления, Константин продолжал использовать глаголицу в качестве некоего тайного шрифта для конфиденциальных посланий, посвятив в его «тайны» лишь наиболее надёжных своих последователей. Позднее, после смерти Константина, и глаголицей, видимо, стали пользоваться наряду с кириллицей, а в некоторых регионах глаголице даже отдавали предпочтение» (II, 19; 358). Итак, по Вернадскому, Константин привёз в Моравию и кириллицу, и глаголицу, используя вторую как тайнопись. Правда, «гриф “секретно”» был снят с глаголицы после смерти Константина, а не Мефодия, как считаем мы.
Однако продолжим изложение нашей гипотезы. Изгнанные в Болгарию ученики Мефодия принесли туда две азбуки — кириллицу и глаголицу. Те из них, которые, по всей вероятности, тайно вернулись в Моравию, продолжали дело учителей, используя для этих целей уже исключительно глаголицу. Но сведения о славянской письменности в Моравии того времени, как уже отмечалось, практически отсутствуют.