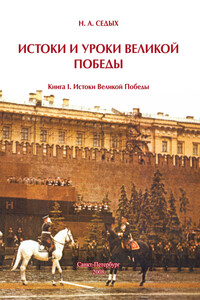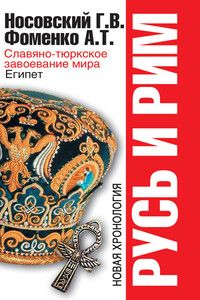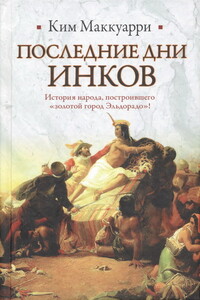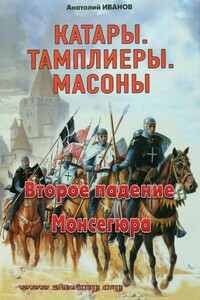Якобы за самовольное оставление стратегических пунктов без разрешения высшего командования, за развал управления войсками командующий Западным фронтом генерал армии Павлов уже к началу июля был снят с должности, арестован и после скорого суда 28 июля 1941 г. расстрелян вместе со своими ближайшими помощниками: начальником штаба фронта генерал – майором Климовских В. Е., начальником связи фронта генерал – майором Григорьевым А. Т., а также бывшим командующим 4–й армией генерал – майором Коробковым А. А.
С нашей современной точки зрения, при всех ошибках Д. Г. Павлова и его помощников, с высшим командованием Западного особого военного округа обошлись неоправданно жестоко. Вредителями, тем более – врагами народа, они, безусловно, никогда не были. А результаты их действий – это следствие не только их слабой личной военной подготовки, но и вышестоящих начальников, которые обязаны были видеть недостатки подчиненных и принимать меры по устранению этих недостатков, вплоть до снятия таких лиц с занимаемых высоких должностей. Однако ни Тимошенко, ни Жуков этого не сделали. Более того, они еще больше усложнили положение командования Западного фронта своими несвоевременными и ошибочными приказами.
По нашему убеждению, личная трагедия Д. Г. Павлова и его товарищей по несчастию произошла потому, что они оказались на острие удара немецкой армии, их двух танковых групп.
С ними обошлись слишком жестоко. Разжалованные и пониженные в должностях и воинских званиях, бывшие генералы могли принести огромную пользу, командуя менее крупными воинскими объединениями и соединениями или даже отдельными частями.
Вместе с тем существует версия, подтверждающая якобы вопиющую личную безответственность командующего округа и его заместителя по политической части (более правильно – члена Военного совета округа). Согласно этой версии, вечером 21–го июня 1941 г., в то время как высшее военное руководство страны беспрерывно сообщало о нарастании активности немцев по ту сторону границы, командующий Западным особым военным округом Д. Г Павлов позволил себе, вместе с членом Военного совета округа корпусным комиссаром А. Ф. Фоминых и членами своих семей, отправиться в Дом офицеров на «Анну Каренину», в представлении гастролирующего тогда в Минске МХАТа.
При этом Павлов якобы приказал установить телефон ВЧ в коридоре театра и дважды в ходе спектакля отвечал на звонки из Москвы так, словно отвечает не из театра, а из штаба военного округа, где в тот момент ему полагалось находиться для управления войсками округа и координации своих действий с вышестоящими начальниками.
Поэтому, мол, стоит ли удивляться, что Директива № 1 «О приведении войск в боевую готовность» так и не поступила в подчиненные генералу армии Павлову войска.
Откуда известно об этих «подвигах» командующего округом? Якобы из переданных мемуарных записей его заместителя генерал – лейтенанта Фоминых, бывшего в то время членом Военного совета Западного особого военного округа. Кроме того, эти же сведенья также получены от А. Н. Колесова – офицера отдела культуры политуправления этого же военного округа. Именно этот офицер якобы в те часы дежурил у павловского ВЧ и приглашал генерала из ложи к аппарату.
В реальность подобного трудно поверить. Но, с другой стороны, нам доподлинно известно из текста мемуаров «Солдатский долг» одного из самых выдающихся военачальников Великой Отечественной войны Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, что он, будучи в то время командиром мехкорпуса и находясь в приграничной зоне, вместе со своими подчиненными, командирами дивизий, собирался утром 22 июня, на рассвете, на рыбалку. Только случай, появление на нашей стороне границы немецкого перебежчика, испортил удовольствие будущему Маршалу Советского Союза и его подчиненным половить на зорьке рыбу.
Так что нельзя сказать, что потеря бдительности в то время была характерна только для отдельных командиров и начальников, например, того же Д. Г. Павлова. Она, к нашему несчастию, носила массовый характер.
Но поход в театр, это – не рыбалка. По нашему убеждению, не мог командующий округом так демонстративно, при наличии огромного числа свидетелей, показывать свое легкомысленное отношение к выполнению своих весьма ответственных обязанностей. Если эта история, действительно, и имела место, то она была бы известна не только А. Ф. Фоминых и А. Н. Колесову, но и многим другим.