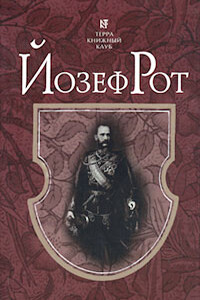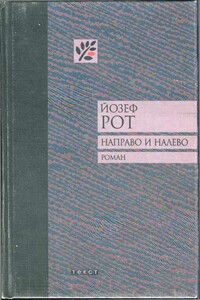Я оплатил гостиницу, велел упаковать чемоданы и заказал себе выпить. Я пил и пил. Меня одолело какое-то дикое веселье. Я уже был спасен. Я телеграфировал шефу нашей пограничной тайной полиции Канюку, чтобы он придержал Ривкиных. Вместе с прислугой я стал рьяно укладывать вещи.
Около полуночи я был готов. Мой поезд отправлялся только в семь утра. В кармане я нащупал ключ. По форме его бородки я узнал ключ от квартиры Лютеции. Ах, стало быть — указание свыше. Надо еще успеть к ней. Благословенная ночь! Во всем признаться и все рассказать. Попрощаться, дать свободу ей и себе.
Я поехал к Лютеции. На улице я почувствовал, что слишком много выпил. Повсюду я видел поющих, возбужденных людей со знаменами, взволнованных ораторов, плачущих женщин. Как вы знаете, тогда в Париже застрелили Жореса. Все, что я видел, конечно, означало войну. Но я был настолько погружен в свои мысли, что ничего не понимал, такой себе подвыпивший дуралей.
Я был готов сказать, что обманывал ее. Раз уж я решил быть порядочным, ничто не могло меня удержать. Я упивался своей порядочностью, как раньше — злодейством. И лишь намного позже я понял, что подобный дурман не держится долго, это невозможно. Добродетель — вещь трезвая.
Да, я хотел во всем исповедаться, хотел — и это представлялось мне таким трагичным — унизить себя перед любимой женщиной, чтобы потом навсегда с ней проститься. Достойное, смиренное отречение казалось мне в тот момент куда возвышенней напускного аристократизма, и даже выше страсти. Если все это время я был героем, достойным сожаления, то с этого момента я хотел стать страдающим, униженным, безымянным, но настоящим героем.
В этом состоянии, если можно так выразиться, торжественной угрюмости я шел к Лютеции. Это было время, когда она меня ждала. Я открыл дверь и удивился, что в прихожей, вопреки обыкновению, навстречу мне не вышла горничная. Все двери были открыты. Мимо противного попугая и остального зверья надо было пройти в освещенный салон, а потом через туалетную комнату в нежно-голубую спальню, которую Лютеция, как правило, называла будуаром.
Не знаю почему, но я медлил, шел осторожнее, чем обычно. Дверь, ведущая в спальню, была прикрыта. Я нерешительно отворил ее.
Лютеция лежала рядом с мужчиной, ее голова покоилась на его руке. И, как вы могли уже догадаться, это был молодой Кропоткин. Казалось, они оба так крепко спали, что не слышали, как я вошел. На цыпочках я приблизился к кровати. О, в мои планы совсем не входило устраивать сцену. Представшее передо мной зрелище в тот момент причинило мне сильную боль, но это не было ревностью. Эта боль, учитывая то героическое настроение, в котором я пребывал, была чуть ли не желанной. Она в какой-то мере подтверждала мой героизм и укрепляла принятые мною решения. Собственно говоря, я намеревался потихоньку их разбудить, и, пожелав обоим счастья, обо всем рассказать. Но получилось так, что Лютеция проснулась, истошно закричала и, конечно, разбудила Кропоткина. Он сел прежде, чем я успел что-то сказать. На нем была ярко-синяя шелковая пижама, открывавшая голую грудь. Это была бледная, слабая, безволосая юношеская грудь. Грудь мальчика. И я не знаю, почему, но в тот момент меня это сильно разозлило.
— А, Голубчик, — потирая глаза, сказал он, — вы еще до сих пор не уехали? Разве мой секретарь не рассчитался с вами окончательно? Подайте мне пиджак и, сделайте одолжение, возьмите мой бумажник.
Лютеция молча глядела на меня. Наверняка она уже обо всем знала.
Поскольку я не шевелился и продолжал с грустью смотреть на князя, он, по своей дурости, принял этот взгляд за наглый вызов с моей стороны и внезапно зарычал:
— Вон отсюда! Наемный стукач, негодяй! Вон!
А так как в этот же самый момент я увидел, что совершенно обнаженная Лютеция, приободрившись, выпрямилась, то, вопреки всем намерениям, хотя я не ощутил никакого плотского вожделения при виде обнаженной женщины (по тупому мужскому разумению вообще-то принадлежавшей мне), во мне проснулась страшная ярость.
Голая Лютеция совершенно сбила меня с толку, а в мой мозг, мою кровь, возбуждая ненависть, врезалось только одно слово: «Голубчик!». И громче князя я завопил ему прямо в лицо: