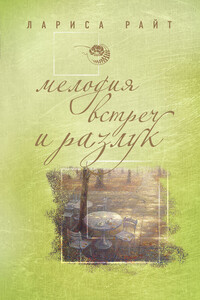— Что случилось? — Михаил сам вздрогнул от звука собственного голоса, таким никчемным и ненужным показался ему вопрос. Она и не стала отвечать, повторила только:
— Никогда больше не называй меня так. Слышишь?
Это пронзительное «слышишь?» почти обрадовало Мишу, потому что вместе с ним вдруг заалели щеки, а в глазах мелькнула искра неподдельной ярости. В Аню возвращалась жизнь, и ради этого он смог бы стерпеть какой угодно сильный и продолжительный приступ гнева. Хотя зачем гневаться? Она же сама рассказала ему про имя. Но Аня больше не сердилась. Попросила уже спокойнее и тише:
— Не называй, ладно?
— Ладно, — тут же откликнулся он.
Подошел, притянул к себе, прижал, стал гладить по волосам, снова ставшими копной, а не паклей. И она остыла, оттаяла и заплакала, уткнувшись в его подмышку. Заплакала горько, громко и бесхитростно, как ребенок. И было в этих слезах столько отчаяния, что он не сразу решился спросить. Но не спросить не мог:
— Ань, а как не называть-то?
Она резко вскочила и выкрикнула, разрывая воздух страданием:
— Нука! Нука! Нука!
Миша услышал и принял, и понял: о ее прошлой жизни тоже лучше забыть.
Началась настоящая жизнь. Веселая, молодая, студенческая. У него — студенческая, у нее — почти, и оба они были одержимы желанием уничтожить это «почти».
Она учила монологи и отрывки, играла этюды и читала прозу, а он критиковал и ругал, и хвалил, и восхищался, и верил. И она верила. А вера, как известно, способна свернуть горы, не то что кучку народных в приемной комиссии, которые прошлым летом воротили носами, а теперь наперебой приглашали к себе в мастерские.
Аня выбрала Школу-студию МХАТ и утонула в учебе. Она выныривала лишь для того, чтобы изредка устроить праздник в подгоревшей кастрюле, послушать Мишины идеи об очередной короткометражке, которую он собирался снимать, или сбегать в знакомый подвал, чтобы там за пару часов под бесконечные истории художника смастерить очередную полочку, табуретку или столик. Столики и стульчики оставались неотъемлемой частью Аниной жизни: они украсили квартиру коменданта, за что тот закрывал глаза на ее присутствие в общежитии.
Запах подгоревшей картошки, лака, свежей краски, споры о фильмах Кустурицы стали настолько привычной, а главное, необходимой частью жизни, что предложение Михаила не стало ни неожиданным, ни необычным.
— Давай поженимся. — Без трепета и романтизма.
— Давай. — Ни восторга, ни умиления.
Просто должно быть так и только так. Ничего необычного в том, что они созданы друг для друга.
Подали заявление, назначили день, купили кольца, рассказали о грядущем событии друзьям — и снова закружились в водовороте сюжетов, экзаменов, съемок и идей.
Аня предполагала выплыть лишь накануне, чтобы пробежаться по подружкам и одолжить какое-нибудь, пусть не свадебное, но мало-мальски приличное платье, но Миша, как оказалось, не смог заплыть так глубоко, чтобы берега прошлой жизни окончательно скрылись. А потому однажды и прозвучало:
— Хочу познакомить тебя с мамой.
— С мамой?
Аня чуть не выпалила «зачем?», настолько она привыкла к негласно установленному правилу, что они живут настоящим и о прошлом не вспоминают. Она с такой очевидностью понимала, что в ее судьбе эта страница уже перевернута, что даже не сразу сообразила, что в Мишиной мама все еще является тем настоящим, о котором болит его душа. Но как можно не согласиться?
— Познакомь.
Знакомились в квартире на Котельнической.
— Широкий жест академика, — пояснил Миша, не пускаясь в подробности.
— Понятно, — кивнула Аня, без любопытства осматривая высокие потолки и нарядные стены.
Если кого и можно было удивить роскошью, то не ее, и Миша с его реакцией на ее родство с известной актрисой, конечно, не мог этого не осознавать. Но он не спрашивал, почему она живет в его общаге, и она не интересовалась, почему там обитает он сам. Наверное, широких жестов академиков не хватает на всех.
Впрочем, какое отношение мог иметь какой-то академик к болезненного вида женщине, встретившей их на пороге с вымученной улыбкой, угадать было сложно. Аню поразило, что впоследствии Миша вскользь упомянул о нем как о «бывшем муже». Угадать в Мишиной матери жену, пусть даже бывшую, академика было невозможно. Не показывала она ни шика, ни лоска, ни учености — одна простота, и скромность, и стеснение, будто хотела она попросить прощения за свое существование.