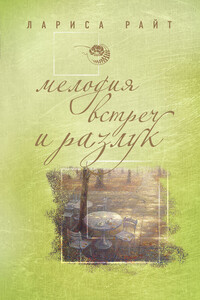— А не спеть ли нам, Юрий Николаевич, чего-нибудь этакого?
Аля быстро схватила гриф гитары, пока причитания матери не дошли до чужих ушей. Она чуть склонила голову: так что светлые (уже свои) локоны спустились на один глаз, тронула струны и завела нежным бархатистым голосом: «Я ехала домой…» Гитару она освоила на первых съемках, вокал поставили в институте, ну, а про давнюю любовь мужа к романсам догадаться ей было нетрудно по звучавшим из его проигрывателя Шульженко, Камбуровой и Вертинскому.
Аля взяла последнюю ноту. Гости одобрительно закивали, кто-то даже раздобрился на несколько хлопков, мать умильно промокнула платочком глаза. Аля мысленно скривилась — для кого был разыгран весь этот спектакль, купился в очередной раз, встал с наполненной рюмкой и искренне произнес:
— Моя жена — прекрасная женщина.
Послышался поддерживающий мужской шепоток и делано равнодушный женский. Аля заметила, как снова заулыбалась мать, принимая похвалы в адрес дочери на свой счет. «Смейтесь, кивайте, шепчите, завидуйте, улыбайтесь, — думала Аля. — Вы можете сколько угодно соглашаться с ним или нет. Да-да, вполне можете не соглашаться, даже спорить. Что верно, то верно: не такая уж я и прекрасная женщина. Я прекрасная актриса, и я предоставлю вам возможность это понять».
Так думала она, склонив светловолосую голову и нежно обнимая инструмент. И никто не смог бы угадать в этой истинной ласке и нежности, в этой скромности и невинности того напора, той страсти, того огня, что будет пылать через много лет на портрете в старом доме перед кроватью немощной старухи.
Женщины в церковь заходили чаще. Михаил по неопытности сначала считал их более набожными, чем мужчин, более скованными предрассудками, убеждениями и традициями, но вскоре получил отличную возможность убедиться в ошибочности такого взгляда. Отнюдь не все женщины направлялись к иконам, не все склоняли колени и ставили свечи, большая часть, негромко переговариваясь, терпеливо ждала очереди на исповедь.
Исповедовались охотно и много. И не потому, что грешили часто, а потому, что словом перемолвиться да совет получить от умного человека каждой хотелось. В интеллигентности и прозорливости служителей церкви никто не сомневался, а потому и Михаила воспринимали если не в качестве истины в последней инстанции, то, во всяком случае, в качестве доброго и мудрого наставника.
А Михаил… Михаил так устал смиренно улыбаться, покачивать головой и выдумывать утешения на слезы и жалобы! Ему претило играть, ему наскучило наставлять. Если бы он получил знак о пользе своего занятия, то, возможно, смиреннее относился бы к своей участи, но прихожане выливали на него свои проблемы, ждали с надеждой, когда же он выловит из этого котла людских поступков, смердящего хитростью, похотью и трусостью, что-нибудь стоящее и наградит спасительным «Покайся», или «Прочти трижды «Отче наш», или еще каким-нибудь мало значащим и совершенно, с точки зрения самого Михаила, не успокаивающим совесть лекарством… Он выслушивал, и награждал, и отпускал с миром, но сам мира не чувствовал. Не ощущал своей пользы, не чувствовал необходимости. Да, приходили, да, делились, да, внимали. И только.
Если бы был с ним рядом отец Федор, то объяснил бы, что любому человеку не так важно, чтобы с ним говорили, гораздо важнее, чтобы его слушали и слышали. Но Михаил остался один, и некому было вести с ним философских бесед о природе человеческой души. А души между тем в большинстве своем были настолько бездуховны, что если и могло их спасти нечто, то уж никак не троекратное прочтение молитвы.
— Я, батюшка, не виноватая, вот те крест. Щас нормальных-то днем с огнем не сыщешь, а чтоб у него еще и руки не из одного места росли, такие попросту перевелись. Ну ежели ходит ко мне мужик, даром что женатый, что же, мне его гнать, что ли? Он мне и пол залатает, и потолок побелит, и детям гостинцы принесет. Как же его гнать-то, коли от него одна польза?
А что ответить? У него самого познаний на этот счет не больно много. Разве что:
— Блуд — это смертный грех.
— А меня пугать не надо. Я пуганая. Я пришла, рассказала. Может, и покаялась даже. А раз покаялась, грех отпусти — и дело с концом.