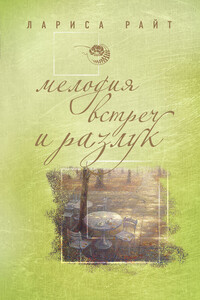— Имя-то у нее есть?
— Что?
Михаил непонимающе посмотрел на собеседника. Он так увлекся воспоминаниями, что забыл, где находится.
Он по-прежнему сидел в изголовье кровати в больничной палате. Они о чем-то говорили с отцом Федором. Ах да, о любви. О том, что он, Михаил, ее вовсе не потерял. Может, и прав немощный старец, может, и живо еще чувство. А иначе почему так ноет в груди, почему что-то застилает глаза и почему так нежно и осторожно произносит Михаил родное и далекое:
— Аня.
— Расскажи мне.
Прозвучало как приказ. В слабом голосе даже послышалась давно утраченная твердость.
Михаил давно закрыл свою душу от посторонних. Внешняя оболочка начищена — и ладно. Он настолько привык к эпитетам, которые не скупясь раздавала ему пресса, что иногда забывался и всерьез начинал считать себя «баловнем судьбы», «охотником за удачей, поймавшим ультрамариновую птицу» или без замысловатых сравнений просто «гениальным продюсером».
Действительно, жаловаться на жизнь было грешно: деньги — в избытке, женщины — в очереди, а в телефоне — сотня номеров разных приятелей, готовых и прийти на помощь, и скрасить одиночество. Только почему же так часто от этого одиночества, сдобренного пустыми разговорами и полными стаканами, становилось тошно и в прямом, и в переносном смысле?
Бывало, ему казалось, что он окончательно смирился с потерей Ани. Читая об ее успехах или приходя на спектакли, он радовался и гордился уже не так, как гордятся родным человеком. Он походил скорее на толкового менеджера, которому льстят успехи его протеже. Любая выпорхнувшая из-под твоего крыла певчая птичка всегда будет напоминать людям о том, кто ее сделал. Взлет бывшей жены играл на руку профессиональным амбициям Михаила. Теперь никто не мог обвинить его в низкопробности сериалов, ведь в них снималась сама Кедрова. С ним уже не отказывались работать именитые режиссеры, у него с удовольствием снимались известные актеры, а его имя в титрах заранее обеспечивало очередной картине зрительский успех.
Дважды он находился в нескольких шагах от женитьбы. В первый раз его остановила радость претендентки, когда он сообщил о невозможности ребенка. Девушка, казалось, испытала облегчение и начала счастливо стрекотать какую-то ерунду об испорченной фигуре, бессонных ночах и сопливых младенцах. Миша тогда вспомнил полные слез большие глаза и растерянный голос:
— Женщина всегда хочет родить от любимого мужчины, а ты предлагаешь мне самой отказаться…
Михаил помнил: Анна тогда была полностью раздавлена. И он предполагал, что прежде чем чаша весов между ним и ребенком склонилась в его пользу, жена провела немало бессонных ночей. А новая претендентка даже не попыталась скрыть радости по поводу того, что ей никогда не придется рожать.
Второй раз Михаил бросил невесту буквально на пороге загса. Хотя тогда в столице не осталось ни одного издания, не попытавшегося представить его в неблаговидном свете, он ни разу не пожалел о содеянном. А как он должен был поступить?
Брызги шампанского, поздравления, легкий мандраж и треп ни о чем в ожидании, когда произнесут твою фамилию и распахнут двери зала торжественных событий. И в этот волнующий миг восхитительная ручка в белой перчатке вытянула указательный пальчик и произнесла недовольно-растерянным тоном:
— Кто это?
Михаил обернулся и увидел пожилую женщину, которая немного растерянно рассматривала публику в зале, не решаясь присоединиться к веселой толпе. Михаил расплылся в улыбке:
— Моя мама.
— Твоя мама? — недовольно протянул голосок.
Миша сначала решил: удивилась, он же не предупредил. Хотя разве о таком предупреждают? Но объяснил все-таки:
— Да. Я за ней водителя послал. Пойдем, я тебя познакомлю.
Миленькая головка с дорогущей диадемой в прическе разъяренно зашипела и сразу же стала походить на медузу Горгону:
— Ты же говорил: она не в себе.
— Не волнуйся, малыш, сейчас у мамы хороший период, и она будет рада за нас.
— Рада? Хороший период? Ты пригласил на мою свадьбу сумасшедшую и говоришь, что у нее «хороший период»?!
Михаил побагровел. Единственное, о чем он жалел впоследствии, — это о том, что сдержался и не оставил отпечаток своей ладони на щеке. На лице, которое мгновенно стало чужим и не просто некрасивым, а омерзительным. Конечно, в этом случае его имя полоскали бы в прессе еще дольше и беспощаднее, но сам Михаил, возможно, смог бы испытать чувство полного удовлетворения.