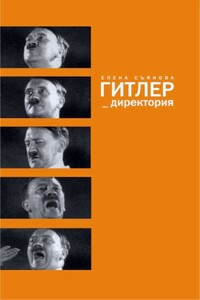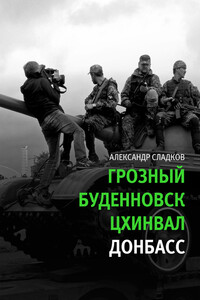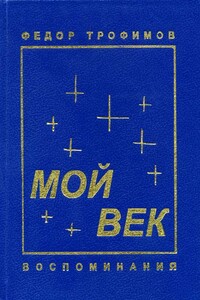Теперь дети выросли, сами с семьями или «на выданье», и я очень люблю порой беседовать с ними «за жизнь».
Когда приходится совсем туго, соседи всегда рядом. Помню, когда у меня на дому были длительные маниакалы, в кризисные ситуации бесстрашно входила к нам Натка, с улыбкой уговаривая: «Пошли, там ребята собрались!», и я была ей благодарна, хотя и понимала, что заманивает меня вовсе не к «ребятам», а в больницу (у подъезда уже ждала чья-то машина).
А ее муж Юра всегда требовательно выспрашивает, над чем я работаю, постоянно напоминая, что он «растил детей на моих статьях» еще в прежней «Комсомолке».
Как-то у мамы случился длительный приступ, и соседи по очереди дежурили около нее, пока я ездила в редакцию. У нас в те дни были проблемы с постельным бельем, и наши милые женщины тащили нам кто простыню, кто пододеяльник. А мужики, когда мы все же решили маму госпитализировать, сами ее на одеяле спустили вниз, к машине «скорой помощи».
Мы все вместе разделяли проблемы каждой квартиры, будь то беда с наркотиками у пацанов или несчастная любовь у кого-нибудь из ребятни. А потом провожали их в армию, женили, выдавали замуж – каждый раз радуясь за них всей площадкой.
... С горечью пережили мы в свое время крушение коммунистических идеалов. Для моих соседей это было еще и потерей работы, социального статуса. Но все обошлось: мужчины, в основном, работают в серьезных фирмах, их жены пошли учителями в школы. Но вот теперь, спустя годы, я думаю, что не такие уж это вещи несовместимые – коммуна и «рынок». Просто все дело в «пропорциях» и формах этой совместности...
Соседство – оптимальная основа для духа коммуны.
Особое место в моей «группе поддержки» занимают мои коллеги, люди пишущие и делающие газеты.
Прежде всего, конечно, Петр Положевец, главный редактор «Учительской газеты», где я работаю в штате уже второй десяток лет после разрыва с «Комсомолкой». (Сам он перешел в «УГ» из «КП» несколько раньше.)
Познакомились мы с ним на турнепсе (это овощ такой, убирать который редакция «Комсомолки» ездила каждую осень в 80-е в подшефный совхоз). У нас тогда освободилось место редактора отдела образования и «Алого паруса», и мы с Валькой Юмашевым, капитаном «АП», срочно искали свою кандидатуру на этот пост, чтобы из ЦК ВЛКСМ не прислали очередного функционера.
Был серый промозглый день. Мы обреченно таскали в кучи склизкий турнепс с грядок (он похож на большую продолговатую репу). И вдруг из этой мглы вынырнул прежде незнакомый мне парень, очень красивый и стройный с синими грустными волошковыми глазами («волошка» – по-украински значит «василек»). Была в тех «волошках» какая-то особая, пронзительная печаль. Узнав, что это наш новый собкор по Украине, я сопоставила его уже замеченные прежде красивые тексты с этим взором волошковым и твердо заявила Вальке: берем! Юмашев и тогда умел мгновенно решать кадровые и прочие сложные вопросы (что пригодилось ему несколько лет спустя на посту главы администрации Ельцина). И вот через неделю Петр Положевец работал на этаже. Это было лето Чернобыля, и не эту ли печаль принес он в своих глазах, побывав прежде нас всех на АЭС?
Петр так и остался для меня с вечера моего дня рождения слитен со словами песни на стихи Виталия Коротича «Переведи меня через майдан»... Мы упоенно танцевали с ним под пластинку, вторя Сергею и Татьяне Никитиным на своей украинской «мовi», и общая родина с ее печалью и простором наконец-то прорвалась, озвучилась в нашем московском кругу общения.
Может, именно глубинная, женственная поэтичность украинской «мовы» (не хочется переводить это слово на более рациональное, более мужское слово «язык») лежит в основе его уникальной способности к отклику на самые запредельные мои «улеты».
Критика таких состояний, безусловно, важна, но все же временами для меня не менее важно, как ни парадоксально, на фоне этой критики (от мамы, сестры, от Фура, от самой себя)... ее отсутствие. Но не равнодушное, а мягкое, удивленное, как у Пети: «Да ты что?» – в ответ на самые мои невообразимые откровения по телефону, да еще глубокой ночью или, того хуже, рано утром.