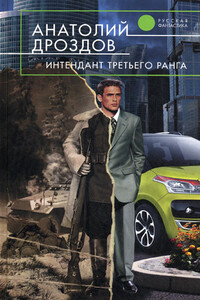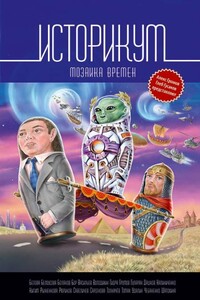Фаленберг поджал губы. Немец так немец. Пусть перец, пусть колбаса. Наплевать. Что бы ни думали о нем матросы, воевать они будут. Сейчас они не люди, а механизмы. И он, лейтенант Фаленберг, тоже механизм, и нет ему нынче дела ни до чего человеческого, а есть дело только до показаний дальномера, до расчетов прицела и целика…
Он обрадовался, когда поступила команда открыть огонь. Тридцать секунд спустя батарея правого борта ударила залпом.
– Еще попадание в головной барк, – вскоре доложил Враницкий.
– Вижу, – кратко отозвался Пыхачев. – Прикажите отсемафорить: «Чухонцу» еще прибавить хода.
– Он идет на пределе… но… слушаюсь!
Мощный столб воды вырос у самого борта напротив мостика. Командира и старшего офицера окатило соленым дождем.
– Прошу вас перейти в боевую рубку, Леонтий Порфирьевич, – нарочито скучным голосом проговорил Враницкий. – Здесь становится опасно.
– Зато отсюда лучше видно, – отмахнулся Пыхачев.
– Здесь могу остаться я, а вы укройтесь. Кто поведет корвет, если бомба угодит в мостик?
– Золотые слова, Павел Васильевич. Вот вы и ступайте в боевую рубку, если считаете, что нам следует разделиться.
Враницкий дернул щекой, ничего не сказал и остался на месте.
Его бинокль был направлен прямо по курсу, где маячили трубы неизвестного судна и уже проступила под ними темная полоска корпуса.
– Нет и нет, ваше императорское высочество, – в десятый, наверное, раз повторил Лопухин. – Я не могу этого допустить.
Наследник российского престола был почти трезв – выпитые с утра полбутылки шампанского не в счет – и рассуждал относительно здраво. Это и пугало. Лопухин предпочел бы, чтобы в данный момент цесаревич был пьян в стельку, как сапожник.
– Но я должен, – горячась, настаивал Михаил Константинович. Он то плюхался на кушетку, то вскакивал и принимался нервно бегать по каюте. – Я офицер, в конце концов!
– Да, но сухопутный, – парировал граф. – В морском сражении вам нечего делать, как и мне. Берите пример с полковника Розена и его головорезов. Где они? Сидят за броневым поясом и не высовываются, поскольку наверху в них нет нужды. Вот если дойдет до абордажа – тогда другое дело.
– Но я должен быть наверху! Вы ничего не понимаете. Одно присутствие наследника престола на палубе во время обстрела должно… э… поднять боевой дух наших матросиков, вот!
«Как же, – без улыбки подумал Лопухин. – Так ты и поднял боевой дух матросов. Очень ты им нужен. Нижние чины отнюдь не остолопы и прекрасно понимают, кто есть кто. „Матросиков“! Воистину прав был покойный государь Александр Георгиевич, на дух не переносивший, когда при нем употребляли словечки вроде „солдатик“, „матросик“, „христолюбивое воинство“ и прочие тошнотворные слюнявости. Просто-таки вывел их из обращения. Характером покойный государь был крут, сам не сюсюкал и другим не давал. Оно и правильно. Солдат не беспризорный котенок, и уж если жалеть его, то по-человечески, то есть не губить понапрасну и не измываться без дела. Большего ему не надо.
Казалось бы, сюсюканье – мелочь. Иным с дурна ума даже кажется, что оно может сойти за проявление сердобольности. В точности наоборот! Война – не игра в солдатики. Забыл об этом – не удивляйся поражениям. Ах, цесаревич, цесаревич… надежда России, черт бы тебя взял, отрыжка коньячная!»
Но вслух граф сказал совсем иное:
– Хоть застрелите, ваше императорское высочество, не пущу. Пока я отвечаю за вашу безопасность, вы будете находиться в безопасности, то есть там, где я укажу, и оставим эту тему.
– Вы мне силой, что ли, помешаете?
– Если потребуется. – Отступив на шаг, граф поклонился. – Кстати сказать, во время артиллерийской дуэли всем, кроме комендоров, полагается находиться внизу во избежание ненужных потерь.
– А как же боевой дух?
– Боевой дух матросов, поверьте, достаточно высок. Слышите, какая частая пальба? Наверняка неприятель терпит большой урон. Вот увидите, не пройдет и часа, как он побежит к себе в Рейкьявик.
Сказано было твердо. Самое чуткое ухо не уловило бы и тени сомнения графа в своих словах. На миг ему самому показалось, что он верит в то, что говорит. Но лишь на миг.