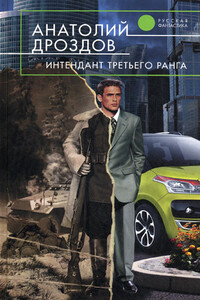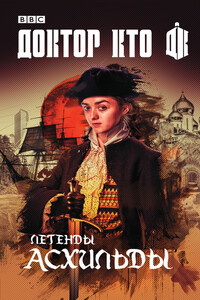– Вот макаки желтозадые! Не могли поселиться на материке, как все порядочные люди! Плыви к ним!
Оценить эту мысль, по правде говоря, единственную сколько-нибудь логичную, было некому. Камердинер и дворецкий лишь слабо мычали, готовясь с минуты на минуту отойти в мир иной, офицеры корвета не могли составить компанию по причине занятости и крайней усталости, и даже цербер Лопухин заглянул в каюту цесаревича всего один раз, да и то отказался составить компанию. Оставалось пить в одиночестве и ругать глупых азиатов.
На полковника Розена качка не действовала, лишь багровел его страшный шрам. Полковник почти все время проводил в кают-компании, рассеянно перечитывая Тита Ливия, и даже не выругался за обедом, когда суп из тарелки дерзко выпрыгнул прямо ему на китель. А граф Лопухин на третьи сутки шторма заперся в своей каюте и не покидал ее на протяжении многих часов. Чем там занимался статский советник, никто не мог сказать. Однако постучавшийся в каюту Розен немедленно был впущен внутрь и нашел графа полностью одетым и с лицом хотя и бледным, но не мученическим. Несгораемый шкап чиновника Третьего отделения стоял явно не на месте – наверное, во время шторма тоже плясал и прыгал по всей каюте. То ли ловить и укрощать его, разрезвившегося железного черта, то ли спасаться бегством…
На языке вертелась колкая шутка, но Розен удержался – не мичман какой-нибудь.
– Ну и накурено у вас, – мрачно сказал он, покосившись на полную окурков пепельницу, помахал ладонью перед лицом и сразу перешел к делу. – Я только что от капитана. У нас неприятности.
– Повреждение в корпусе? – обеспокоенно спросил Лопухин.
– Чего нет, того нет, корпус в порядке. Экипаж тоже. На «Чухонце» смыло одного матроса, царствие ему небесное, а у нас без потерь. Но такелаж поврежден, и в машине непорядок. Уже чинят. В трюмы наплескало воды, сейчас ее откачивают ручными помпами. В целом, пустяки. Погода налаживается. Беда в другом: за минувшие трое суток мы сожгли черт знает сколько угля. Угольные ямы заполнены едва на четверть. Капитан намеревался повернуть на Ставангер или даже воротиться в Копенгаген.
– Разумно. Так в чем же дело?
– В цесаревиче. Явился на мостик в расхристанном виде, раскапризничался там, как балованное дитя, ни о каких задержках и слышать не хочет. А главное, чувствует, что часть офицеров, кто помоложе, его поддерживает. На капитана наорал. «Хочу скорее в Японию», – кричит. Ногами топает. Ни за что ни про что обозвал Пыхачева трусом, перестраховщиком и старой тряпкой. Ну, этого наш каперанг, конечно, не выдержал. Побледнел, кулаки сжал и скомандовал ложиться на курс двести восемьдесят. Обогнуть Англию нам угля хватит, а потом капитан собирается спуститься на парусах к Азорам, пополниться углем и поймать пассат. Ничего другого нам, в сущности, не остается. Пойдете к нему протестовать?
Подумав несколько мгновений, Лопухин покачал головой:
– Не пойду. Поздно.
– Глядите, наследник войдет во вкус. Один раз он капитана подмял, потом и вовсе веревки из него вить будет.
– Не думаю. Но кто конкретно из офицеров поддержал цесаревича?
– Извините, я вам не доносчик, – отрезал Розен. – Захотите, так узнаете без меня, на то вы и служите в Третьем отделении. К тому же никто из офицеров не нарушил дисциплину, не говоря уже о присяге.
Закурив папиросу, Лопухин с полминуты следил за прихотливыми извивами струйки дыма, поднимающегося кверху и растекающегося по потолку каюты. Будучи наслышан о восточных способах самоконтроля при помощи созерцания и в целом одобряя их, он тем не менее скептически относился к традиционным для Востока объектам созерцания. Ну почему обязательно цветущая вишня или собственный пуп? Чем хуже дым папиросы?
– Давайте сделаем так, полковник, – предложил он очень спокойным голосом. – Я не стану кричать, топать ногами и стучать кулаком по столу, а вы ответите мне на один вопрос: зачем вы сюда пришли?
– Хороший вопрос, – почти не растерявшись, одобрил Розен. – Просто замечательный. Ну, скажем, я считаю, что в служебных вопросах наши интересы совпадают в главном: обеспечить успех экспедиции. Не вижу причины, отчего бы мне не помочь вам, если дело не касается моей чести.