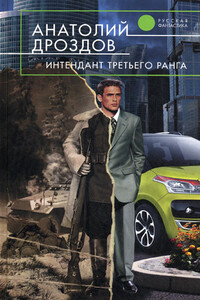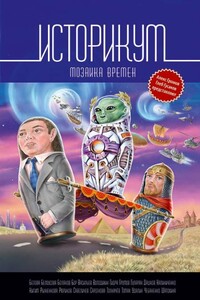И точно: лица офицеров не выражали ничего сверх предписанного уставом. Даже мичман Свистунов, памятный по славному кутежу в Данциге и помеченный в нетрезвой памяти цесаревича биркой «этот свой», оловянно таращил холодные нагловатые глаза – делал, негодяй, вид, будто не понимает, чего надо будущему императору.
Почему? Что случилось?
Михаил Константинович был, наверное, единственным на корвете, если не считать содержащегося под замком машинного квартирмейстера Забалуева, кто не понимал, что случилось.
А случилось всего-навсего сражение, успешное, но кровопролитное, сразу делящее людей на две категории. Даже выпавший за борт и, вернее всего, погибший цербер граф Лопухин был сейчас ближе каждому из офицеров и матросов, нежели наследник престола, вне всяких сомнений явившийся за спиртным. Ничто так не делит людей на «наших» и «ненаших», как пережитая опасность.
Вот этого-то никак не мог понять цесаревич, заподозривший во время короткой паузы, что присутствующие попросту бестолковы и нуждаются во внятных подсказках.
– Вы… это… вольно, господа, вольно, – улыбнувшись через силу, проговорил он, делая руками такие движения, будто плавал по-собачьи. – Без чинов, без различий. Я люблю по-простому. Что это вы так отдыхаете? Ни вина, ни песен. Кого хороним, а?
Передернуло всех, не исключая и Свистунова.
– Умершего в лазарете кондуктора Ласточкина нынче схоронили, ваше императорское высочество, – отвечал, дергая щекой, Батеньков. – Остальных убитых отпели и похоронили еще вчера.
Цесаревич смешался лишь на секунду.
– Печально, печально… Сожалею. Вот что, господа, а не выпить ли нам по маленькой? В честь избавления от опасности и вообще…
Гробовое молчание было ему ответом. Михаил Константинович рассердился.
– Да вы что, языки прикусили, что ли? Забыли, кто я? Вам волю дай – вы из корвета монастырь сделаете. К черту покойников! Ненавижу кислые рожи. Приказываю пить и веселиться! Подать сюда вина!
– Вина у нас не имеется, ваше императорское высочество, – холодно доложил Батеньков.
– Как?! Ну, водка, ром, коньяки и ликеры – это я еще понимаю, сожжены. Но вино?
– Погибло во время аврала. – Батеньков не стал уточнять, что, освобождая деревянную тару, матросы и морпехи попросту переворачивали ящики, безжалостно вываливая на пол бутылки «Клико», «Цимлянского» и мадеры. Вся кают-компания была завалена битым стеклом и благоухала. Вина уцелело прискорбно мало. Наверняка нижние чины успели что-то припрятать, однако Пыхачев категорически запретил чинить обыск: «Люди заслужили».
– Не может того быть, чтобы все погибло, – не поверил цесаревич. – Вы, капитан-лейтенант, примерную девочку из себя не стройте, я таких, как вы, насквозь вижу. Я вам приказываю, это вы поняли, балда стоеросовая? Исполнять! Нигилист! Сгною! Ноги в руки – и марш!
Последние выкрики сопровождались топанием ног. Изо рта цесаревича летели брызги, одутловатое лицо побагровело. Батеньков, напротив, страшно побледнел. Тизенгаузен сделал к нему шаг, надеясь, как видно, предотвратить непоправимое. Мичман Свистунов, сызмальства не обладавший железной выдержкой, сжал кулаки и нехорошо осклабился.
– Свинья! – вдруг громогласно возгласил отец Варфоломей и захохотал густым басом. – Свинья и никак иначе!
Цесаревича словно ужалили.
– Что-о?!
– Крестословица, ваше императорское высочество, – пришел священнику на помощь флегматичный Фаленберг, указав на журнал. – Нежвачное парнокопытное из шести букв – свинья. Подходит.
Не говоря более ни слова, цесаревич круто повернулся на каблуках и вышел вон.
Показалось ли ему или и вправду спустя несколько секунд после его ухода из кают-компании донесся взрыв хохота – осталось неизвестным. Позднее Михаил Константинович твердо решил: показалось. Ведь не может того быть, чтобы офицеры настолько забыли уважение к императорскому дому! Никак не может.
А значит, этого не было.
Искать Враницкого и Розена цесаревич не пошел – с этими двумя негодяями было все ясно. Ничего, дайте срок, господа, вы у меня славно попляшете, когда помрет папенька!
Мичман Корнилович, друг сердечный, объяснял что-то матросам на шкафуте. На цесаревича он даже не посмотрел. Ну ладно!..