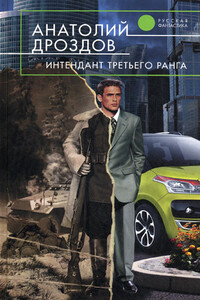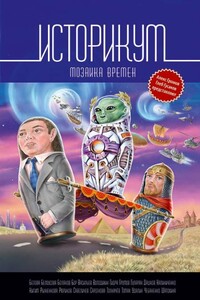Но случись нечто ужасное со столицей – что останется? Убожество обшарпанных домишек? Вонючие заборы? Крапива? Похрюкивающая от удовольствия свинья?
Худо, когда страна имеет одну голову. Маловато и двух.
В последние годы крупные ассигнования шли на Дальний Восток. Бурно разрастался Благовещенск. Градостроители ломали головы, пытаясь привести застройку владивостокских холмов к сколько-нибудь разумному виду. Архитектор Львов-Рычалов, лично руководивший строительством небывало величественного здания Хабаровского университета по собственному проекту, докладывал о скором окончании работ.
Сегодня Константин Александрович выбрал для пешей прогулки один из своих любимейших маршрутов: по Никольской аллее мимо Римских фонтанов и Шахматной горки до Александрии, а далее по Приморской аллее к Монплезиру. Как обычно, императора сопровождал старый денщик, имея на сгибе локтя шинель. Старик не доверял теплому июньскому дню.
Возле искалеченной Шахматной горки спорили двое – придворный архитектор Матвей Модестович Форелли, правнук навсегда осевшего в России славного итальянца, и знаменитый фонтанных дел мастер Сысой Рыбоедов. Диспут шел на повышенных тонах. Оба размахивали руками и чертежами, по всей видимости, уличая друг друга в отсутствии художественного вкуса и технической безграмотности, вместо того чтобы справедливо ругнуть великого князя Дмитрия Константиновича, изувечившего красоту ради призрачной целесообразности. Много ли электричества даст установленная им турбина? Хватит от силы на полдюжины лампочек.
Спорящие стороны были настолько увлечены изобличением изъянов друг друга, что не сразу заметили императора. Заметив – поклонились. Константин Александрович ответил особым кивком – одновременно благосклонным и дающим понять, что отвлекать государя от его мыслей сейчас не следует. Оба искусника поняли правильно.
Царская семья готовилась к переезду в Крым, где по совету лейб-медиков император проводил уже пятое лето, дыша кипарисами, магнолиями, зноем гор и теплым морем. В Большом петергофском дворце царила предотъездная суета, еще усугубившаяся приездом великой княжны Екатерины Константиновны с тремя фрейлинами и статс-дамой Головиной. Дворец напоминал цыганский табор. Но и распоряжавшийся переездом обер-гофмаршал, имея в своем распоряжении двух гофмаршалов и целый штат низшей прислуги, предпочитал сегодня действовать на свой страх и риск, не дерзая беспокоить государя.
Среди мыслей, занимавших Константина Александровича, особенно острым гвоздем засела в голове одна: где «Победослав»?
Корвет покинул Копенгаген шестнадцатого мая, о чем своевременно протелеграфировал Воронцов. Покинул – и пропал начисто. Вместе с канонеркой.
После Копенгагена он не заходил ни в один европейский порт. Это означало лишь одно: узнав о беспрецедентной по наглости военной демонстрации англичан в Ла-Манше, Пыхачев приказал изменить курс, чтобы обогнуть Великобританию с севера. Но даже и в этом случае экспедиция уже пять-семь дней назад должна была бы достичь Азорских островов. Однако каблограмма Пыхачева из Понта-Дельгада так и не поступила. В ответ на запрос русского Министерства иностранных дел испанский губернатор на Азорах любезно сообщил, что в водах, омывающих вверенные ему владения короля Хуана-Филиппа, «Победослав» и «Чухонец» не появлялись.
Россия не имела консула на Азорах, однако сомневаться в искренности испанских властей не приходилось. Что делить Испании и России, кроме неприязни к Альбиону?
Император вполне понимал горячность Пыхачева и сочувствовал ей. Возможно, капитан поступил бы иначе, знай он о том, что резкий тон нот протеста заставил Англию открыть проливы уже к утру двадцать третьего мая. Но что сделано, то сделано. А дальше логически возникали три возможности.
Во-первых – и думать об этом было больнее всего, – корвет и канонерка могли погибнуть в шторм. О небывало сильной для этого времени года буре писали все европейские газеты. Сообщалось о по меньшей мере шести погибших судах – и ни слова о «Победославе» и «Чухонце».
Последнее еще ни о чем не говорило. Отсутствие спасенных – дело, к сожалению, обычное при гибели корабля в шторм. Отсутствие найденных обломков и вещей, по которым удалось бы идентифицировать затонувшее судно, – тоже не такая уж большая редкость. Иной раз от судна не остается просто-напросто ничего. Мало вероятно, чтобы сразу от двух – но и это случается.