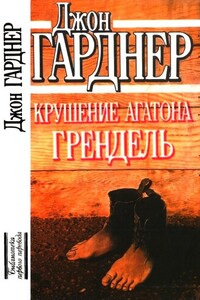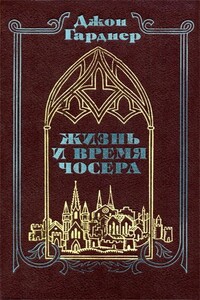Проснулся он утром в каком-то подвале, недоумевая, как туда угодил, его штаны пропахли утиным пометом, словно он побывал в вонючем болоте, в голове неимоверно стучало, руки так тряслись, что пальцы — он знал это по опыту — еще много часов не смогут держать кисть. Мысленно проклиная себя, он выбрался из подвала, огляделся вокруг (оказывается, он забрел на самую окраину, в бедные кварталы города) и поплелся домой.
— Значит, ты решил держать меня здесь, под этой тряпкой, до конца моих дней? — спросил говорящий портрет. — Так вот что ты задумал!
Влемк нехотя прошел в угол и сдернул с портрета покрывало.
— Боже мой! — воскликнул портрет, вытаращив глаза. — Уж не заболел ли ты?
Влемк нахмурился, дернул себя за бороду и отправился спать.
А вечером снова засел за работу и писал до рассвета; потом попил кофе и писал целый день, пока не закончил еще одну шкатулку. Портреты выходили все более зловещими, в лице Принцессы бесстыдно проглядывали черты распутства, что делало его, с точки зрения говорящего портрета, оскорбительно непохожим на оригинал; впрочем, говорил портрет теперь мало и даже перестал комментировать происходящее — так он был разгневан и оскорблен. И снова Влемк пошел в кабак, и снова напился до потери сознания, а когда, качаясь, плелся домой, уже наступило утро и по городу развозили молоко.
Несколько недель длилось это безумие — Влемк писал и пил запоем, — и вот однажды, это было в марте, Влемк стал посреди мастерской, заваленной шкатулками с изображениями Принцессы (одно отвратительней, безобразней другого, на некоторых из них художник, одержимый стремлением неприкрашенно показать правду, деформировал лицо до неузнаваемости), и вдруг решил остановиться. Почему? На этот вопрос он и сам вряд ли смог бы ответить. Отчасти вот по какой причине; хоть самому художнику они временами казались великолепными, но ведь никто не приходил их смотреть, а когда Влемк принес один из портретов в кабак, то никому, даже будущему убийце он не понравился.
«Как он может не нравиться?»— жестами спросил возмущенный художник.
— Скучищ-ща, — протянул будущий убийца и, отвернувшись, уставился в стену.
«Ну, конечно, — подумал Влемк, почти не скрывая презрения, — твоя работа интересная, а моя — скучная».
Но Влемк был не дурак, он понял смысл сказанного убийцей. Именно это говорил ему полоумный поэт: мы ничему у искусства не учимся, а только признаем его истинность, если оно на самом деле истинно; нет такого закона, который обязывал бы нас трепетать перед ним. Причем бывший поэт сказал, что Наука в этом отношении ничуть не лучше. «Каково главное назначение Науки, — спрашивал себя Влемк, — если не развлечение, не безделье, не пустое времяпрепровождение, вроде метания колец? Скажут, что Наука облегчает жизнь, даже когда продлевает ее. Да, это правда. Так будем же благодарны Ученым за то ценное, что они даруют нам, — ведь благодарны же мы коровам за их молоко или свиньям — за бекон. Как два полушария головного мозга бывают одновременно заняты несходными функциями, так и Наука и Искусство стремятся несходными путями открыть Истину о вселенной. Таким образом, Ученый и Художник, занимаясь этим весьма приятным для себя делом, одновременно открывают Истины, которыми могут одарить человечество, подобно кавалеру, преподносящему своей даме медальон. А что, если Истина о вселенной заключается в том, что вселенная скучна?»
И вот мало-помалу Влемк пришел к заключению, что радость творчества, как и его прежнее видение идеально прекрасного, есть самообман. Не то чтобы он не испытывал удовольствия, когда искал технические приемы для фиксирования, как бы сказать, своего восприятия, то есть своего представления о непрочности и, в конечном счете, тленности всего сущего. Не меньшую радость могут доставлять уроки игры на мандолине; но ведь когда подобные занятия кончаются, то человек всего лишь умеет играть на мандолине. С таким же успехом можно изучать удобные и неудобные способы сидения на балконе.
Так что Влемк, горько посмеиваясь над собой, перестал писать. Говорящий портрет по-прежнему дулся, и Влемку иногда приходило в голову, что можно, пожалуй, и продать его какому-нибудь туристу; однако художник почему-то не решался на этот шаг. Теперь уже ничто не мешало ему катиться по наклонной плоскости: он перестал умываться, не менял белья и даже не сознавал своего печального положения, потому что никогда не бывал по-настоящему трезв. Шли дни, недели. Влемк настолько переменился и пал духом, что перестал буянить, так что даже завсегдатаи кабака, казалось, не узнавали его, когда он, согбенный и хмурый, похожий на закованного в цепи дьявола, проходил мимо них в уборную или на улицу. О Принцессе он почти позабыл и вспоминал ее очень редко и лишь мимолетно, как вспоминают далекие картины детства. Иногда, если кто-нибудь заговаривал о ней до того, как Влемк успевал окончательно напиться, он усмехался с видом человека, который знает больше, чем позволяет себе сказать; это наводило других, особенно кабатчицу, на мысль, что отношения между Влемком и Принцессой ближе, чем можно было предположить. Но поскольку он был нем и не желал изъясняться записками, то никто его не расспрашивал. И кому была охота подходить к нему? От него несло, как от старого, больного медведя.