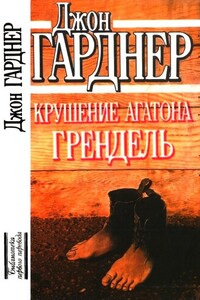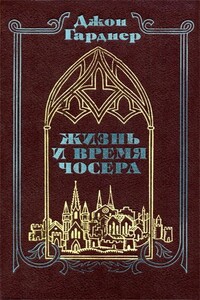Он поставил свой подарок на стойку и, кивая головой и улыбаясь, стал показывать сначала на шкатулку, потом на кабатчицу и обратно, но она лишь молча таращила на него глаза. Кабатчица не испытывала к нему приязни, да и вообще не любила людей, особенно мужчин, ибо много от них натерпелась. Бывали случаи (Влемк вспомнил об этом, только когда писал ее портрет), что она после ночи, проведенной с каким-нибудь моряком, отличавшимся крутым нравом, или с крестьянином, умевшим обращаться только со скотиной, появлялась в зале избитая, вся в синяках. Иногда — и об этом ему тоже напомнила кисть — она наливала в кружки пиво, и на глаза ее вдруг навертывались слезы.
В конце концов кабатчица все же приняла подарок, зная, что он от нее все равно не отвяжется, если она этого не сделает, и с каким-то странным, детским выражением лица, испуганная и смущенная, сняла со шкатулки темно-красное покрывало. Увидев портрет, она вскрикнула, точно пораженная печальным зрелищем, губы ее задрожали; но в ту же минуту дрожь прошла, лицо расплылось в улыбке, и кабатчица, притянув к себе бородатое лицо Влемка пухлыми руками, расцеловала его. Влемку стало ужасно неловко — он меньше всего ожидал от нее поцелуя, но заставил себя улыбнуться и потом с той же натянутой улыбкой наблюдал, как она ходит от столика к столику, показывая подарок, и как все люди от души расхваливают портрет.
Казалось, никто, кроме бывшего поэта, бывшего скрипача и будущего убийцы, не замечал, что изображение на шкатулке — просто выдумка, фальшивка, наглая ложь. Влемк наградил кабатчицу детской улыбкой, хотя улыбка эта была так же чужда ее угрюмому грубому лицу, как египтянин — эскимосу. Он наградил ее глазами двенадцатилетней селянки, зная, что ничего общего, кроме карего цвета, между глазами кабатчицы и портрета не было. Он украсил ее подбородок багрянцем, некоторые дефекты кожи убрал, а некоторые (такие, как родимое пятно на шее — он обратил на это пятно внимание, только когда стал писать портрет) изобразил в виде мушек. Немного подтянул груди, разгладил кожу, поднял нависшие брови, сделал более приметной ямочку на щеке. Одним словом, превратил ее в красавицу, причем сделал это так искусно, что только художник смог бы определить, где кончается правда и где начинается подделка.
— Вина живописцу! — крикнул один из завсегдатаев.
— Да уж ему-то не пожалею! — ответила кабатчица. И вдруг улыбнулась так, как будто ее подменили.
Теперь у Влемка не было больше забот — во всяком случае, этой самой насущной для него заботы. С того вечера он получал в кабаке все, что просил: вино, пиво, водку, — и если и находил потом дорогу домой, то лишь с помощью кого-нибудь из друзей. А с кабатчицей произошло нечто удивительное. Она стала как две капли воды похожа на свой фальшивый портрет, гостей обслуживала с улыбкой, на незнакомых людей смотрела глазами невинного ребенка и держалась с глуповатой горделивостью и так прямо, что груди ее делались почти такими же, как их изобразил Влемк. В своей «побочной» профессии она добилась таких успехов, что Влемк стал опасаться, как бы она не вышла замуж и, бросив кабак, не обрекла бы его таким образом снова на нищенство. Временами он с тревогой замечал, как она нет-нет да и взглянет украдкой на шкатулку, которую постоянно держала на видном месте, а однажды — и тут он испытал всю глубину своего падения — взглянула на него самого так, как будто бы она разгадала смысл его поступка. Разве ей, как и ему, не свойственна была игра воображения, разве она не такой же творец и разрушитель? Однако вслух она ничего не сказала, за что Влемк был глубоко ей признателен.
Отношения Влемка с другими людьми складывались не столь удачно. Поскольку он был лишен дара речи, всем не терпелось поделиться с ним своими горестными и постыдными тайнами — ведь они заведомо знали, что эти тайны не будут разглашены. Женщины, заглянув в его серые всевидящие глаза и убедившись, что он нем и потому безопасен, раскрывали перед ним такие жуткие картины своих разочарований и измен, раскаяния, гнева и отчаяния, что его неделями преследовали тревожные сны. Тихие старички рассказывали ему истории об изнасилованиях и поджогах, об истязаниях животных и бог знает еще о чем. Влемк сделался ходячей энциклопедией пороков и преступлений против человечности — скорее, козлом отпущения, чем духовником, потому что, увы, не был властен ни прощать, ни осуждать.