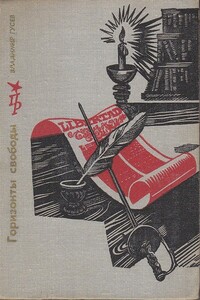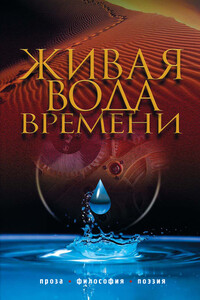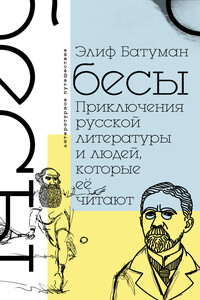В сфере композиции, да, есть та техника, что и требует от прозаика лишь усидчивости, прямого трудолюбия и терпения, при почти полном неучастии таланта как такового. Это те сферы, благодаря которым есть афоризм, что прозу пишут не чем, а задницей. Как мы уже говорили, композиция вообще — это техника, но есть сферы, где это почти голая техника. Во многом это относится ко всему тому, что названо «скучным» словом «мотивировка». Слово скучно, а стоящее за ним — скучно для автора вдвойне. Причем усмешка-то дьявола тут и в том, что эта скука автора продиктована как раз интересами очевидной убедительности для читателя — интересами его веры автору. Давно известно, что читатель простит и путешествие на Луну, и подводное царство, и появление привидения, но не простит прямых внешних неувязок — немотивированных сцен, деталей. Не простит «львицы с косматой гривой на хребте». Смех смехом, а до сих пор по поводу этой львицы ворчат и на гения. Львица, по словам сатирика, свое уж отпрыгала: сколько можно. Нет, вспоминают снова. И это — стихи, притом обнаженно романтические: там вроде и можно. Что же о прозе, тем более резко повествовательной? Здесь все должно быть мотивировано, т. е. рационалистически увязано, объяснено во внешнем плане. Ну, разумеется, в соответствии с законом игры: если автор опять-таки настаивает, что привидения есть на свете, то пусть: как у Гофмана, у Уайлда в ироническом контексте и пр. Но если при этом привидение было сначала в белом, а потом, как ни в чем не бывало, без всяких объяснений (мотивировок!) со стороны автора, вдруг оказалось в своем голубом предвенчальном платье, — вот тут читатель взыграет: как? о чем? почему? нас надули!
Обыкновенны жалобы литераторов, особенно, конечно, прозаиков, повествователей, на унылость этой работы — соединять, связывать, давать «проходные» места, чтоб ничто не противоречило ничему «недиалектически», чтоб не было «промахов», «неувязок». Известны жалобы на это Толстого. Известны уныло-завистливые слова Гете о Шиллере: он не охотник был до мотивировок, а я вот только и делаю, что мотивирую. Ну, тут еще включается простое: чистому романтику, каковым был Шиллер-художник, разумеется, все же более позволено; а от писателя того типа, что Гете и особенно уж Толстой, в соответствии с их же собственными, принятыми на себя законами стиля, требуется куда более скрупулезное правдоподобие. Как говорится, «эффект присутствия…» Вот и надо трудиться, хотя, повторим, именно этот труд обычно не приносит самому автору никакой радости, а лишь раздражает его: здесь не участвует «1с1», заветное, задушевное, здесь — забота о внешнем. Но и мы сами, литераторы-профессионалы, ловим себя на том, что самим-то нам мотивировать неохота, а вот у другого мы не прощаем отсутствия и ничтожной, внешней мотивировки. Вспомнить эти бесконечные наши же споры после какого-нибудь фестивального кинодетектива: а куда же тот делся, а как эту забыли, а почему же он сначала сказал: «Я из Кливленда», а потом объяснил: «Мой папаша из Тенесси?» И спорим, пока кто-нибудь не скажет: «Тьфу! да это просто авторы нахалтурили». Тогда все вокруг успокаиваются. Особенно это было актуально, когда выходили наши советские фильмы с купюрами и торопливыми связками-переделками. Мотивировочные связи при этом, конечно, существенно нарушались, и зритель спорил о том, на что ответ могли нам дать лишь спешные ножницы «слуг» и цензоров.
Как бы то ни было, закон мотивировки, как видим, очень существенен для зрителя, читателя — «перцепиента», восприемника творчества; и авторы это знают.
Иногда они и обыгрывают это печальное для себя обстоятельство. Возьмем два крайние в разных отношениях случая. Вот перед нами Гоголь в «Как поссорился Иван Иваныч с Иваном Никифоровичем». Гоголь, как известно, тут «морочит» нас с невиданной силой, идиотизм и бестолковщина жизни все время тут в атмосфере; и в частности, в одном там месте к герою Иван Иванычу присоединен новый Иван Иваныч. Как сказать? В жизни такое бывает. У нас однажды за столом на четверых оказалось четыре Владимира Иваныча, за что мы и выпили. В семинаре критики на Высших литературных курсах тоже было четыре, причем двое руководителей и один староста, а один активист… Да, в жизни такое бывает, и мы лишь смеемся совпадению. Не то в искусстве. Здесь все свободней и в то же время более стеснено: стиль есть стиль, «сообразность и соразмерность» есть «сообразность и соразмерность» — явная или тайная гармония, даже при самом свободном стиле. Гоголь, конечно, знает, что просто так двух Иван Иванычей быть в тексте не может, читатель это тотчас воспримет как зевок, промах автора, как, мы говорим, не консонанс и не ассонанс, а диссонанс в стиле. Что же он делает? Он, конечно, с самого начала знал, что у него за игра, и вводит вот это свое знаменитое — эту свою ехидную присказку: «Не наш Иван Иваныч, а другой». И пошло, поехало: «Тот Иван Иваныч», «наш Иван Иваныч», снова «не наш Иван Иваныч, а другой». Мы видим, что нас морочат, но мы довольны; мы видим: художник ведет игру, он владеет материалом, преодолевает его.