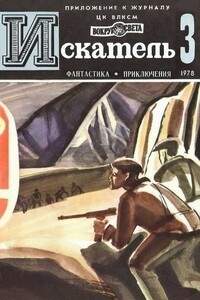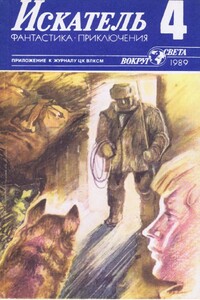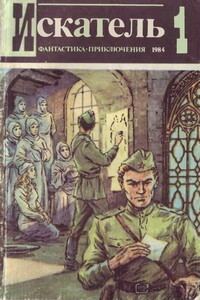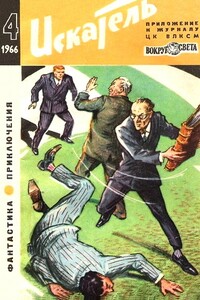— Шефу не понравится. Но мы зайдём к нему в самый последний момент, когда менять что–нибудь будет поздно.
* * *
Без десяти двенадцать вступаем в редакторский кабинет. Шеф надевает очки. Читает. Мрачнеет.
— Мы не можем дать это. Так некрологи не пишут.
Амиран бесстрастно:
— Через пять минут некролог должен быть в цеху.
Шеф надевает очки.
— Надо переписать. Дадим в следующий номер.
Амиран, глядя в окно:
— Следующий номер юбилейный.
И верно: следующий номер юбилейный, пятитысячный для нашей газеты. Он готов к печати давно, уже с месяц. Его содержание никак не сочетается с некрологом. Жизни — жизненно, как говорится.
Шеф снимает очки.
— Но мы не можем совсем не давать некролог. Умер наш сотрудник, наш товарищ…
— Конечно, не можем, — поддакиваю я.
Шеф надевает очки. Внимательно изучает меня (появляется ощущение, что не все пуговицы застёгнуты), говорит назидательно:
— Некрологи публикуются, чтобы вызывать в людях память о человеке. Умер наш сотрудник, наш товарищ, и, значит, некролог, что вы написали, наша память о нём. Некролог — это статья, содержащая сведения о жизни и смерти человека…
Подобным образом редактор способен рассуждать бесконечно, поэтому Амиран всё тем же бесстрастным тоном прерывает его:
— Если через две минуты некролог не попадёт в цех, будут неприятности с типографией.
Шеф снимает очки, снова надевает, ставит, где полагается, закорючку подписи и вяло машет рукой: несите, мол.
Мы с трудом удерживаемся от смеха.
* * *
В нашей комнате импровизированное собрание. Шурик прикидывает, кто даст деньги «на Толю», в столбик пишет фамилии. Вдруг подскакивает, протягивает список.
Шестым в столбике значится Ножкин.
* * *
«Толю не вернёшь, а жизнь продолжается». Я всё жду, что кто–нибудь, исполнившись философичности, произнесёт эти слова, но пока мои ожидания не оправдываются.
А жизнь, как бы то ни было, продолжается. И надо работать. И я лишу тот самый очерк, что должен был написаться ещё при жизни Толи. Редактор сегодня осведомлялся о его судьбе. Я ответил: «У машинистки». Очерк и в самом деле сейчас печатается: я печатаю сам, доканчиваю восьмую страницу, без мудрствования и натуги. Если ничего не помешает, требуемые пятьсот строк лягут через час на стол Амирана. Каждая из них будет честна, правдива, и всё же вместе взятые, они не выразят того, что я мог, но не сумел сказать.
На девятой странице входит Пониматель. Садится рядом.
— Выбора теперь нет ни у меня, ни у тебя. Моя звёздочка взойдёт послезавтра. Ты должен успеть подготовиться.
— Должен? Кому должен?
— Толе должен, мне должен, себе должен! — в голосе Понимателя несвойственный ему металл.
— А если моя звёздочка тоже вот–вот?…
— Это случится не скоро. А «вот–вот» тебя позовут к редактору.
Заглядывает Валерия.
— К шефу!
Я недоуменно смотрю на Понимателя. Он усмехается.
Иду к редактору, не сомневаясь, что он собирается взять реванш за некролог, но нет: он вызвал меня по делу. Ему позвонили из стройтреста: на участке, где возводится Дворец муз, сегодня собрание. Мы курируем эту стройку. Мне вменяется в обязанность поприсутствовать, послушать и, может быть, написать. «Только без всяких ухищрений, это рядовой материал», предупреждает меня редактор.
— Это тема Ножкина, — говорит он напоследок. Что поделаешь: Толю не вернёшь, а жизнь продолжается.
Возвращаюсь к себе. На столе под стеклом фотография жены, попавшая сюда в стародавние времена. Вынуть её не поднимается рука. Была любовь… Была! И только это мешает драме обернуться фарсом.
* * *
Собрание идёт своим чередом. Поднимаются люди, читают по бумажкам: цитата в начале, цитата в конце. Лица постные, о деле ни полслова. И я вспоминаю, как Ножкин пытался взбаламутить это болотце. И забываю о собрании, начинаю думать о Ножкине.
Срок пребывания человека среди живых не есть единственно его жизнь: его секундомер включается, когда мать подумает о нём, ещё, может быть, не зачатом, и останавливается, лишь когда уходит последний из незабывших его. Я не помню, где моя память захватила это слово — «жизнесмерть». Оно красиво–неясно–страшноватое — точно обозначает предмет моего рассуждения. Я — один из творцов Толиной жизнесмерти. Я делаю это небескорыстно, с надеждой, что кто–то будет творить и мою жизнесмерть. Ибо я могу смириться с краткостью своего физического существования, но не могу и не хочу мириться с абсолютным концом. Если слаться, смысла в жизни останется не больше, чем в смерти…