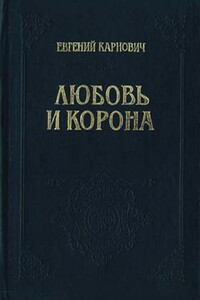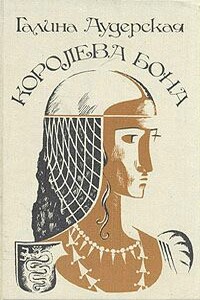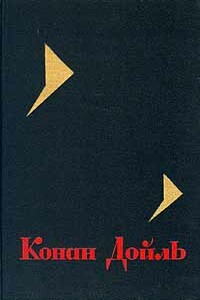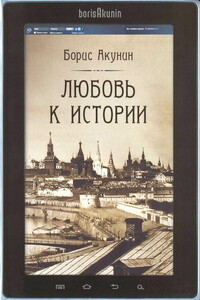Но вот явился к нему грозный Ушаков в сопровождении своих адъютантов и сильного караула. Ушаков объявил герцогу от имени правительницы повеление о немедленном выезде его из Петербурга.
Герцог пошатнулся, но, тотчас же оправившись, он склонил голову и, не говоря ни слова, отдался в руки своих суровых распорядителей, которые, накинув плащ поверх бывшего на нём шлафрока, повели его с лестницы, окружённого со всех сторон штыками.
Едва показался на дворцовом подъезде герцог с низко надвинутой на лицо шапкой, как стоявшая около подъезда толпа тотчас же узнала его по знакомому всему Петербургу его синему бархатному плащу, подбитому горностаем. Народ неистово завопил, и по площади раздались крики: «Вот он, наш злодей и мучитель!», «Сейчас бы и порешить его!», «Что закрыл ты харю, покажи её!» – кричали ему с разных сторон.
Теперь проявилась вся дикая разнузданность грубой черни, которая ещё так недавно с подобострастным страхом преклонялась перед своим властелином, а теперь с проклятиями и ругательствами готова была бы растерзать его в клочки, если бы только войска не сдерживали её свирепого натиска[72].
Герцога, почти потерявшего сознание, втолкнули живой рукой в дормез[73], запряжённый придворными лошадьми. На козлах дормеза сидел, вместо кучера, полицейский солдат, а рядом с ним лакей в придворной ливрее; экипаж был окружён отрядом гвардейских солдат с примкнутыми к ружьям штыками. В отдельном, переднем сиденье дормеза помещались доктор и два гвардейских офицера, каждый из них с двумя заряженными пистолетами. По знаку, данному одним из адъютантов Миниха, распоряжавшимся отправкой арестанта-герцога, поезд тихо двинулся.
В эту минуту герцог нечаянно поднял глаза и увидел в окне дворца бледное лицо Анны Леопольдовны. При виде своего пленника правительница вздрогнула, она хотела сказать что-то окружавшим её, но голос у неё замер, и она, закрыв лицо, заплакала навзрыд. Стоявший у окна, около Анны, её супруг смотрел на всё происходившее с каким-то торжественно-напыщенным видом, но в душе ему как будто не верилось, что в отъезжавшем от дворца экипаже мог сидеть тот самый человек, которого он за несколько часов так смертельно трусил, и принц с почтительным изумлением взглядывал на молодую женщину, отомстившую регенту обиды и свои, и нанесённые им её ничтожному супругу.
После герцога, также в дормезе, был вывезен его брат, генерал Бирон, а за ним в простых санях был отправлен Бестужев. Сильный конвой сопровождал и того, и другого.
Наступали ранние сумерки ясного морозного ноябрьского дня. На небе горела вечерняя заря, обливая розовым светом и здания, и толпившийся на площади народ. Ярко-пурпуровым блеском отражался закат солнца в окнах домов, и всё это придавало Петербургу весёлый праздничный вид, соответствовавший тому настроению, в котором находились теперь жители столицы; с шумным говором потянулся, наконец, народ за войсками, двинутыми с площади, по окончании всех главных распоряжений, и вскоре всё вступило в колею обычной жизни для тех, кто не участвовал в перевороте; совершенно иное испытывали теперь те, на ком он отразился прямо или косвенно.
Тотчас после доклада Миниха Анне Леопольдовне об аресте регента она послала известить об этом графа Остермана как главного и необходимого дельца в такую затруднительную минуту, приглашая его немедленно приехать в Зимний дворец. Услышав совершенно неожиданную весть о падении герцога, осторожный до крайности министр не поверил возможности такого важного события. Он полагал, что, вероятно, между регентом и принцессой произошли только какие-нибудь замешательства и столкновения, впутываться в которые было бы слишком опасно, и что известие о захвате регента основано на каких-нибудь неверных, преувеличенных или преждевременных слухах, или же, наконец, оно сообщено ему нарочно для того, чтобы заставить его принять участие в неокончившейся ещё борьбе принцессы с герцогом. Как бы то, впрочем, ни было, но, ссылаясь на свою тяжкую болезнь, Остерман приказал посланному принцессы доложить её высочеству, что он, к крайнему своему прискорбию, не имеет решительно никакой возможности исполнить её приказание. С таким ответом возвратился посланный в Зимний дворец, куда уже успели собраться все вельможи. Не видя среди них Остермана и узнав о его обычной отговорке, Миних тотчас же смекнул, в чём дело, и попросил камергера Стрешнева, шурина Остермана, отправиться к кабинет-министру.