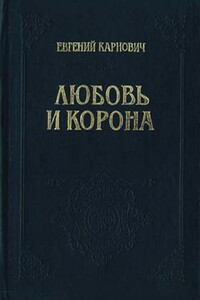– Эка, варвары! – прошептал Мирович.
– Варвары? Слушай, друг. То ли ещё было впереди. На новом месте несчастным вышло хуже прежнего. Поместили их – о том мужу моему в тайности сказывал опосля конвойный капрал, – поместили в ветхом и запущенном деревянном доме, где в стары годы содержался в ссылке царёв любимец, князь Меншиков. Не было там ни годной провизии, ни прислуги; вода гнилая, болотная. Принцесса была опять в тягости. Иванушка хворый. А тут в Питере снова пошли толки о возврате к правлению Ивана Антоныча. Осенью были страшные казни: ох! сама ходила – видела! А на допросе и не то ещё подтвердилось… В гвардейских полках, друг ты мой, так, сдуру притом, надеялись, что говорили: «наши, уповаем, и за ружьё, в таком разе, не возьмутся…» А тут по весне стала слышна новая молва… В городе шёпотом, украдкой начали толковать, будто к заключённым в Ранибург – сама я слышала от кумы-протопопицы – дошёл для сборов на церковь некий, сказать тебе, раскольничий монах и что он уговорился с принцессою и с принцем, тайно, с их согласия, похитил Иванушку, а дабы его укрыть, до возраста, среди своих единоверцев, бежал с ним в раскольничьи слободы, на Вятку, в Польшу… Беглецов якобы настигли в лесах под Смоленском; монаха повезли на розыск в Питер, а Иванушку в Валдайский монастырь… Да не отложить ли, Васенька, сказ на завтра? Поздно, стемнело…
– Ах, матушка вы моя родная, говорите, говорите! – сказал, ухватив за руки Филатовну, Мирович.
– Ну, после таких слухов, Василий, в Рязанскую-то губернию к заключённым, как снег на голову, и прискакал нонешний наш енарал-полицмейстер, барон Корф. Ему велено было тех арестантов отвезти под сильной стражей ещё далее, а именно в город Архангельск, и оттоле ночью, по тайности, в Соловецкий монастырь… Аки гром сразила заключённых эта весть о новом переезде. Думали они, что их везут в Сибирь, в тот город, где жил всеми клятый Бирон. «Не видать мне боле сына! – вопила, без памяти, принцесса. – Прощай, Ваничка, мой царь, прощай навеки!». Разлучили её с любимыми слугами и с наперсницей, фрейлиной Менгденшей. Отобрали все её вещи, баулы, часы, дорогие гребни, перстни… Сестру Менгденши я у Шепелевых после видела, и она им про то сказывала… Аспиды, как есть аспиды, последнюю атласну юбчонку с принцессы сняли, повезли её в простом платье…
Бавыкина отёрла глаза.
– Иванушку, по пятому годку, – продолжала она, – под охраной енарала Корфа повёз с собой в коляске майор, не помню, какого полку, а по прозвищу Миллер. Двинулись осенью, опять в бездорожье, дождь, а потом в снег и холода. Подводы вперёд и квартеры для ссыльных готовил полковник – прости господи! – Чертов… Помню я его. Страшное этакое имя, а добрый был человек. К кучеру покойной царицы хаживал. Для сбережения Иванушки велено ему было иметь при коляске нарочитого солдата, а ребёнка звать – надо думать, в напоминание о проклятом Гришке Отрепьеве, – не иначе как Григорием, и кого везёт, никому не объявлять, а верх в коляске держать повсегда закрытым. Приехали путники к Белому морю… И хотя в тайне от всех держали тот отъезд, только слухи о нём всё-таки дошли до Питера. Полковник Чертов вдруг, представь, тронулся умом, – господень перст. А пока узнали о том и увезли его тоже куда-то, он, среди всякой пустоши, болтал и о тех несчастных. Боле, Васенька, ничего про них не знаю. Таков-то ноне свет: самый он изменчивый, линущий; тлёю везде пахнет… смертью.
Передав рассказ Бавыкиной Ломоносову, Мирович, неделю спустя, улучил минуту и, будто мимоходом, спросил его, что потом произошло с бедными заключёнными?
– Изволь, расскажу, – ответил Ломоносов. – Как сблизился я с фаворитом покойной государыни, с Иваном Иванычем Шуваловым, стал этот юный вельможа, а мой патрон и друг, езжать ко мне на беседу о пользе наук и на уроки стихосложения… Тут он иной раз доверял мне сказывать и о том, что слышал о младенце-императоре… «Где они теперь?» – спросил я раз Ивана Иваныча. «На твоей родине, говорит, в архиерейском подворье, в Холмогорах». Так у меня, друг ты мой, сердце и замерло. «А разве не в Соловках?»– «Коммуникации, – отвечает, – по полугоду с берегом там не бывает; так боятся этак-то поодаль держать… Да и лёд с осени помешал тронуться в Белое море». – «Как же они, спрашиваю, там живут?» – «Иванушку, объясняет, порознь содержат от родителей и сестёр… Внесли его, бедного, в монастырский двор, закрытого с головой, чтоб никто и не знал, где и кого там спрячут». Тяжело стало здесь заключённым. В Ранибурге, сам понимаешь, все были вместе, да и свободней жили, гуляли по роще, по реке. А тут не только за ограду двора – из комнат на крыльцо их не выпускали. Надо, впрочем, правду сказать о доставителе арестантов, о бароне Корфе: он сильно заботился о сосланных. Но его отозвали, а надзор за секретными персонами поручили капитану Миллеру. По весне принцесса родила второго сына, Петра, а через год родила третьего, Алексея, и от тех родов на двадцать восьмом году жизни кончилась. Тело её, по именному указу, было тайно в спирте привезено в Петербург и с церемонией погребено в Александровской лавре, рядом с её матерью, царевной Катериной Ивановной. Императрица при похоронах много плакала… Сам я видел… Пристав Миллер неотлучно находился при Иванушке, чтоб он в двери не ушёл либо от резвости в окно не выскочил. Высокая деревянная ограда окружала двор, церковь, пруд и дома, где поселились несчастные. Ворота постоянно были заперты тяжёлыми замками. В таком уединении, унынии и скуке пристав Миллер, как и капитан Чертов, тоже было тронулся умом. Ему разрешили выписать и поместить с собой жену, но с тем, чтоб и она, блюдя секрет, в принцевых комнатах неисходна была… На десятом году Иванушка чуть не умер от повальной в тех местах какой-то злокачественной хворобы. На двенадцатом его разлучили с Миллером, коего наградили деревнями и переместили полковником фузилёрного какого-то полка в Казань. Перед его выездом из Холмогор с принцем одновременно произошли два весьма важных события…