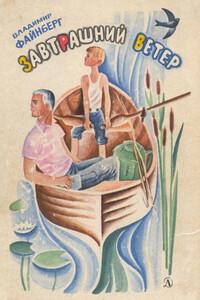Он работал не покладая рук, а я с нарастающей тревогой думал о том, что денег у меня маловато…
В конце концов мастер слил из двигателя старое масло, залил новое. Потом забрался в салон, сел за руль, снова включил зажигание, распахнул правую дверцу, позвал:
— Садись со мной!
Я поднялся, распрямил затёкшую спину, подошёл, сел рядом, спросил:
— Сколько я должен? — и полез в карман за деньгами. Мастер молча включил фары, повёл машину к выезду из гаража.
— Спасибо. Я сам, — робко сказал я.
— Сам-сам! Ты мне все тачки переколотишь.
Когда мы выехали, увидели — падает снег. Оба вылезли наружу, вдохнули свежего воздуха. Я снова полез за деньгами.
— Оставь, — сказал мастер. — Мне твои деньги, что слону дробина.
Ошеломлённый, я попрощался, стал садиться за руль, и тут-то он сказал:
— Эти двое угонщиков и были два твоих милиционера… Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Те самые.
Только вышли из лифта и меня быстро повели куда-то налево по длинному коридору, как откуда-то сзади нас нагнала толпа.
Тощие существа женского рода, одетые в короткие маечки и блузки так, что между их окончаниями и джинсами виднелись оголённые пупки и поясницы, сперва притормозили и тотчас побежали рядом, повернув к нам головы.
Их было человек пятнадцать. Поразительно одинаковые, они безмолвно семенили рядом, стараясь поймать мой взгляд, хоть как-то обратить на себя внимание.
— За кого они меня принимают? — спросил я своего сопровождающего.
— Кыш! — крикнул он. — Пошли вон!
Девицы на миг приотстали, чтобы через секунду снова нагнать.
В их безмолвной массе, нагловатом топотке было что-то хищное, крысиное.
Вдруг я увидел точно такую же стаю. Она бежала навстречу, конвоируя известного эстрадного певца, которого вели к выходу.
— Кто они такие? — спросил я моего провожатого.
— Из Подмосковья, со всей России, — сказал он. — Пытаются устроить своё счастье. Только чтобы получить пропуск сюда, жертвуют девичьей честью.
Крысы, думаю, слышали его ответ. Но продолжали бежать рядом.
Под ногами зазмеились кабели, какие-то провода. Переступая через них, мы вошли в павильон, тесно уставленный осветительными приборами и телекамерами. Стая обогнала нас и стала агрессивно делить поднимающиеся амфитеатром свободные стулья, оставшиеся среди уже собравшихся зрителей. В основном это были скучающие пенсионерки — толстые тётки, некоторые с вязаньем в руках.
Меня усадили на отдельный стул сбоку от аудитории, и я увидел большой фотопортрет отца Александра Меня. Портрет стоял на возвышении, задрапированном белым полотном. У подножья среди искусственных цветов горела свеча.
— Я ведущий, — шагнул ко мне человек откуда-то из-за штативов с приборами. — Вам задавать вопросы или будете сами?
— Буду сам, — ответил я неуверенно.
…За месяц до девятого сентября — очередной годовщины со дня убийства отца Александра телевизионные редакторши, прочитавшие мои воспоминания о нём, оборвали мне телефон, уговаривая приехать и выступить.
Уклонялся как мог. Не хотел быть галочкой в их мероприятии, предвидел — ничего толком сказать не дадут, тем более, что передача пойдёт не в прямом эфире, а в записи. Вырежут всё, что им не понравится.
В конце концов сломали меня тем аргументом, что отец Александр бы не отказался. Он в самом деле считал необходимым воспользоваться любой возможностью выхода к аудитории.
И вот я был здесь.
Ведущий давал последние указания каким-то юношам, одетым в одинаковые комбинезоны. Осветители включили свои приборы. Операторы заняли места у камер. С мегафоном в руке появился всклокоченный человек в пропотелой под мышками майке.
— Аплодировать только по моему знаку! — выкрикнул он в мегафон. — Сделайте умные лица! Между собой не болтать. Мы начинаем!
Заработали камеры. Пока ведущий представлял меня аудитории, юноши в комбинезонах один за другим, торжественно вышагивая, как солдаты кремлёвского гарнизона, подходили к постаменту с портретом, ставили перед ним горящие свечи.
Это было надуманное режиссёрское изобретение для так называемого оживляжа.
Я посмотрел на притихшую стаю «желающих устроить своё счастье», перевёл взгляд на портрет отца Александра.