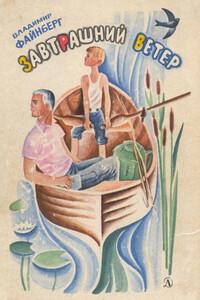Мурка мешает мне стелить постели, прибираться. Ей явно хочется поиграть. Знает, что через полчаса я усядусь в своей комнате за работу и ей ничего не останется, кроме как вспрыгнуть на стол, расположиться подобно сфинксу поодаль. Иногда она пытается ухватить лапкой авторучку, сбросить её на пол. Мол, хватит терять время, поиграем!
Сегодня в восточной комнате особенно яркое солнце. Оно резко разделяет комнату на освещённую середину и ту часть, где держится утренний полумрак.
Мурка лежит на теплом, прогретом лучами паркете, следит за тем, как я поливаю из леечки цветы на подоконнике.
Вдруг замечаю, она подняла голову, настороженно следит за чем-то на потолке.
Там шныряет солнечный зайчик.
Не сразу соображаю, что это — отражение круглого стёклышка моих часов. Сняв их с руки, направляю ослепительный кружок света в тёмный угол — сначала к корзине с детскими игрушками, потом к дивану. Мурка кидается вслед. Замирает солнечный зайчик — замирает Мурка. Вся подобралась для прыжка, хвостик ходит ходуном. Стремглав кидается к цели.
Но зайчик уже на диване. С пола ей не видно, куда он делся. Тогда я перевожу его повыше — на спинку дивана. И вот она мечется за ним взад-вперёд по дивану, по его спинке, пытаясь зацапать лапой, ухватить зубками.
Помню, что пора работать. Было бы стыдно, если бы кто-нибудь застал меня за таким времяпрепровождением. Но сейчас я тоже как котёнок. Так азартно следить за прыжками этого пушистого сгустка жизни…
Направляю зайчик повыше — на висящую над диваном большую карту Палестины времён Иисуса Христа.
Мурка исхитряется прыгнуть ввысь со спинки дивана, достигает синевы Мёртвого моря. И соскальзывает с глянцевитой поверхности карты, плюхается на диван.
Теперь, когда зайчик медленно проползает мимо неё, она лишь в бессильном негодовании клацает зубками. Кажется, поняла, что зайчик неуловим, эфемерен.
Пора перестать заниматься глупостями. Нужно вернуться в свою комнату, усаживаться за работу.
Мурка уснула. Выдохлась. А я все гляжу на подрагивающее пятнышко солнечного света, думаю о том, что все, кажущееся доступным, материальным, зачем гонимся мы всю жизнь, пытаемся урвать, в конечном итоге такой же бесплотный фантом.
Горький вспоминал, как однажды подсмотрел сидящего на садовой скамье Антона Павловича Чехова. Тот с беспомощной улыбкой ловил шляпой солнечный зайчик. Бедный Чехов, умер от чахотки, совсем не старым!
…Надеваю часы, поворачиваюсь к окну и взглядываю в упор на солнце.
— Опять, корова, приклеилась к телевизору?! — донёсся из кухни голос матери. — Завтрак готов, марш за хлебом!
— Не пойду! — отозвалась Виолетта.
Она знала, что за этим последует. Но так не хотелось с утра пораньше бежать в магазин, а потом в школу. Вчера под предлогом совместного приготовления уроков до позднего вечера мерила у соседки-одноклассницы её платья, вместе смотрели концерт поп-групп по тому же телику, потом сражались в карты — в подкидного дурака.
Полчаса назад мать еле разбудила её, растолкала, заставила одеться. И вот теперь не по возрасту ядрёная, неумытая семиклассница с сонными глазами навыкате тупо смотрела на экран, где показывали рекламу зубной пасты и женских гигиенических прокладок.
— Виолетта, прекращай! Беги мыться и марш за хлебом! — Мать, ворвавшаяся из кухни, вырвала из её руки пульт, выключила телевизор. — Немедля иди мыться, от тебя пóтом воняет!
— От тебя самой воняет! — огрызнулась дочь. — Давай деньги. И чтобы на жвачку осталось.
Она лениво слезла со стула, прошла в переднюю, надела сапожки, насунула на голенища концы модных голубых джинсов с бахромой, сняла с вешалки оранжевую куртку-пуховку, вытащила из рукава красную вязаную шапочку. Одевшись, застыла у зеркала.
— Что стоишь-любуешься?! — гаркнула мать, подавая деньги и хозяйственную сумку. — Купишь батон и половину круглого, серого. Одна нога здесь, другая — там. Понятно?
— А на жвачку?
— Останется тебе! Иди наконец. …Тусклое ноябрьское утро было пустынно. На подмёрзшие за ночь тротуары и мостовую медленно падал снег.
В дверях магазина Виолетта столкнулась с выходящим оттуда стариком в линялом, надвинутом на лоб беретике, в чёрных очках с трещиной.