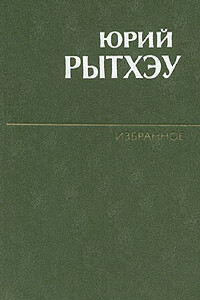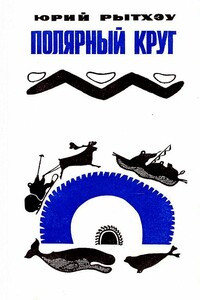— Давай станем оленеводами! — вдруг предложила Френсис.
— У нас это не получится, — ответил Петр-Амая.
— Почему?
— Потому что из эскимосов хороших оленеводов не выходит.
— Ну тогда будем плохими оленеводами… Должны же быть где-то и плохие оленеводы?
На южных склонах сопок при низких лучах солнца уже можно было различить матовую поверхность, словно снег облили глазурью: это незаметно стаяли за долгий солнечный день первые, быть может, только еще доли миллиметра снегового покрова.
Иногда вечером смотрели какой-нибудь старый кинофильм или постановку, заряжая древний видеокассетный аппарат. Усаживались в кресла в гостиной, выключали картинную галерею и уносились в прошлое. Здесь были старинные кинофильмы, снятые по сценариям Евгения Таю и других чукотских авторов, документальные ленты, видеозаписи драматических спектаклей.
Теперь, конечно, немного смешно и даже досадно было видеть, каким примитивным и диким изображался эскимос или чукча до революции. В старой пьесе Сельповского, известного в прошлом веке советского поэта, председатель туземного Совета — Умка Белый Медведь — был выведен таким дремучим дикарем, что даже непонятно, как его могли терпеть собственные земляки. Или другое — инсценировка романа писателя того же времени «Белый шаман». Петр-Амая прекрасно знал, что никакого деления ни на белых, ни на черных шаманов в чукотском или эскимосском обществе не было. Петра-Амаю удивляло, что никто из чукчей и эскимосов не протестовал против такого искажения и истории, и подлинного национального облика народов.
— А может быть, им просто не давали возможности высказываться? — предположила Френсис.
— Да нет, — возражал Петр-Амая. — Такого в принципе не должно было быть. Может, они и есть, эти протесты и критические замечания, просто я не могу их найти.
Петр-Амая призывал себя не обращать внимания на странные, часто непонятные мелочи, которыми изобиловала прошлая жизнь, уговаривая себя, что не это главное. Но на самом деле смотрел эти фильмы именно из-за этих смешных, странных, порой уродливых несообразностей.
Одна вещь не переставала его удивлять: сознательное отравление человека алкоголем и табаком, при государственном производстве этих ядов!
Кстати, Френсис относилась к этому гораздо спокойнее.
— А чем лучше потребление так называемых психогенных препаратов? Что же касается спиртного, то в нашем обществе каждый волен поступать так, как ему хочется. Это свобода.
— Но ты вдумайся, Френсис, какая же это свобода? Вспомни своего дядю, Джона Аяпана!
— Человек сам для себя решает, как ему жить, — продолжала настаивать на своем Френсис. — И к трезвой жизни должен приходить собственным путем, уповая на себя и на бога. Как это сделал Джон Аяпан.
— А ты знаешь, Френсис, что именно в вашей стране впервые была сделана попытка в государственном масштабе избавиться от алкоголя?
— Я об этом не знала! — искренне удивилась Френсис.
— Были приняты строгие законы, — продолжал Петр-Амая, — но все кончилось довольно плачевно: полным признанием неспособности регулирования потребления алкоголя.
— Ну вот видишь! — торжествующе воскликнула Френсис.
— А в условиях социализма, — спокойно продолжал Петр-Амая, — это оказалось возможным… Хотя и не сразу. Я читал, что первое время противники сухого закона любили ссылаться именно на американскую неудачу.
Иногда после таких разговоров Френсис шутливо жаловалась:
— Я все больше и больше чувствую себя коммунисткой!
— Разве это плохо? — дразнил ее Петр-Амая.
— Но вы ведь не верите в бога!
Иногда со смешанным чувством Петр-Амая отмечал в душе: какой, в сущности, еще ребенок Френсис! Она смешила его своими ребячествами, порой он сердился на нее, но ненадолго. Главным чувством было чувство неубывающей любви и нежности. Хрупкая чаша, до краев наполненная трепетной жидкостью, из которой не хотелось пролить ни капли, — с таким ощущением жил Петр-Амая последние дни.
Однажды Френсис и Петр-Амая были разбужены ранним утром непривычным шумом за стенами бригадного дома. Чудилось, будто тяжелый ветер, медленно нарастая, приближается к дому, расширяясь и занимая все большее и большее пространство.