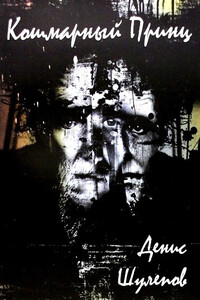в космическую чёрную дыру
в клоаку
познания Великой Силы Любви и состязания с Великой Силой Смерти.
— Крепка, как смерть, любовь… зато хрупка, как стекло. — Валентин не заметил, как сказал вслух.
Зато заметил одну из золотых рыбин, всплывшую кверху пузом.
Из дневника:
Я это чувство ждал давно,
Я ожидал, тая дыханье,
Не веря в то, что суждено
В любви найти мне оправданье
Вешней надежды увяданье
Зимой посеянных зернов.
И я прошу, как покаянье
У ночи тёмной нежных снов,
Не находя тех нужных слов,
Чтоб описать души смятенье,
Услышав сквозь века твой зов,
И вдруг понять в одно мгновенье,
Что ты и есть моя ЛЮБОВЬ!
Не та любовь, что принимал я,
Как веру — зыбкость миражей,
А та ЛЮБОВЬ, где понимал я
Причину жизни виражей.
Я это чувство ждал давно
С глухой тоской и в сердце с недоверьем.
Оно должно мне стать звеном
Единства жизней. И новым продолженьем.
Новое тюремное обиталище Кузьма воспринял настороженно.
— Почему меня перевели сюда? — спросил он у надзирателя.
— Таков приказ, — был ответ.
— Чей приказ? — Кузьма тряханул решётку, та аж загудела.
— Не буянь, кузнец! Не твоё то собачье дело. Угомонись подобру!
Куда там угомониться, гадкий червь подозрения вгрызся в сердце влюбленного парня. Не здесь ему должно быть и не в сыром каземате… а рядом с Валюшей, на свободе! Что-то было там, на свободе, чего уразуметь не успел Кузьма, что-то сильно худое…
— Эй, человек, подь сюда, будь добр! — подозвал надзирателя кузнец, сам не ведая, чего хочет.
Надзиратель не артачился, подошёл. Ему было скучно в воскресный день дежурить одному у клетки единственного заключенного (которого, по слухам, должны вроде на днях освободить) в этом крыле тюрьмы. А ещё он был зол на пристава, приказавшего заступить на это дежурство именно его: ну и что, что он приставал на гуляньях к драгоценной дочери пристава, может, люба она ему, хе-хе! С чего старый пердун взял, что они-де не пара? Этой дурнухе князя подавай?!
— Чего тебе? — спросил надзиратель, зевая во всю физиономию.
— Дело у меня к тебе денежное, — полушепотом сказал Кузьма и увидел загоревшиеся сощуренные глазки надзирателя, последний потянулся ухом к решётке. А Кузьма, не раздумывая, хвать того за горло и шмякнул лбом о кованый прут. Глазки надзирателя потухли и скучились у переносицы. Кузьма сорвал кольцо с ключами с пояса надзирателя и для верности повторно жахнул того о решётку. Надзиратель кулем осел у клетки.
Кузьма поочередно всовывал ключи в скважину массивного висячего замка, на пятой попытке ключ провернулся. Слегка дрожащими руками (Кузьма понимал, что попадись он, то расстрела на месте не миновать) он снял замок и открыл клетку. На столе, за которым коротал время надзиратель, тасуя карты, лежали пистолет и розги. Кузьма забрал то и другое. И, готовясь оказать сопротивление, шагнул к выходу.
Он так и не дал клятву Валюше, и он шёл к барину спросить с него за всё.
Валентин боялся. У него мелькала в голове даже мысль убийства без дум, без дрожи, без последствий, активировав всю жестокость, какая была в нём. Мысль была мимолетной, но Валентин с огромным трудом удержался, чтобы не ухватиться за спасительную соломинку. Слишком гнилая соломинка в реке взыгравшей любви, притом что река, будучи в представлении Валентина изначально тоненьким ручейком, при благоприятной эмоциональной погоде быстро становилась полноводной и быстротечной, и скоро прогнозировалось вполне осознанное впадение в море чувств… а там не за горами океан. И «соломенная» мысль убийства не способна спасти от желания познания любви . Убив единственную на всей Земле девушку, разбудившую в аморфном юноше влюблённость и, как следствие, любовь, пребывавшую всю жизнь в мертвецкой спячке, Валентин обрекал себя на вечный поиск ответного чувства с тысячью и тысячью девушек, никогда и ни за что не сравнимых с его найденным идеалом. И отдавал себе в этом отчёт. Ему не нужно читать мысли Даши, чтобы определить полнейшую духовную совместимость с ней. Они обнялись тогда, прощаясь (то есть, говоря «до свиданья»!) у кафе, и сердце Валентина растеклось воском, он ощутил небывалую негу