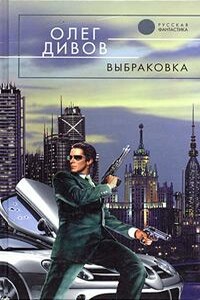– Откуда будешь? – спросил у Ваньки долговязый, с подбитым глазом Жузла.
– У барина в услужении со усердием должность отправлял, только вместо награждения несносные побои получал, – прибауткой ответил Ванька.
– На офеньском говоришь ли?
Был офеньский языком особым, тайным, от офеней-коробейников произошедшим, лихим людям понятным и для нужд их сподручным.
– На офене мало-мальски ботаю, – ответил Ванька.
– А товар с безумного ряду на офене чего будет? – не отставал Жузла.
– Водка это.
– А немшоная баня?
– То изба пытошная.
– Ладно. А умеешь чего?
Ванька переступил с ноги на ногу, очи долу опустил.
– Петь могу.
– Да ну? Давай, спой!
Ухмыльнулся Ванька, подбоченился, плечи расправил и затянул:
– Не ходи, мой сын, во царев кабак,
Ты не пей, мой сын, зелена вина,
Не водись, мой сын, со бурлаками,
Со бурлаками с понизовыми,
Со ярыгами со кабацкими,
Потерять тебе, сын, буйну голову.
– Хорошая песня, душевная, – похвалил Жузла, когда Ванька закончил. – Ты ее откуда слыхал?
– Ниоткуда, сам сочинил, – сказал Ванька, и морозом посреди лета его пробрало – от того, как сверкнул на него глазищами старик.
– Кто таков? – спросил он Камчатку, когда добры молодцы один за другим разошлись на работу, воровскую работу, черную.
– Юродивый это, – Камчатка нос опростал и на землю сплюнул. – Родом он с дальних земель: не то немец, не то француз, не то еще какой турок. По-нашенски говорит странно, не всегда поймешь, и себя не помнит. Лет ему, дескать, под триста, а с чего живет – неведомо. Прибился к нам и не уходит, а мы и не гоним.
– А ну, подойди ко мне, – позвал Ваньку старик, когда остались вдвоем. Голос у него был, словно ворон каркал.
Подошел Ванька, стал глядеть в сторону, не в глаза же такому смотреть – боязно.
– Ты песню по правде сам сочинил? – каркнул старик. – Или, поди, наврал?
– Сам.
– А ну, попой мне еще.
Смутился Ванька, не хотел петь, страшный был старик, с глазами черными, как воровская работа. Но отказать не смог почему-то, почему – сам не ведал.
– Бес проклятый дело нам затеял, мысль картёжну в сердца наши всеял, – запел Ванька с опаской.
– Хорошо, – похвалил старик. – А вот я тебе тоже кое-чего спою:
От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом,
Чужбина мне – страна моя родная.
Я знаю всё, я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовет.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой, как червь, пышней я всех господ.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.
– Это чья же песня? – подивился Ванька.
– Моя, – сказал старик и засмеялся, словно филин заухал.
– А звать тебя как, старче?
Старик насупился.
– Я – Франсуа, – просипел он.
И добавил, помедлив:
– Я – Франсуа, чему не рад: увы, ждет смерть злодея, и сколько весит этот зад, узнает скоро шея.
Старик с заморским именем закряхтел, закашлялся. Сунул руку в карман ветхого, латаного сюртука, долго шарил там и вытащил на свет божий вещь диковинную, цвета медного, на крендель похожую, только мелкую, с полпальца.
– Знаешь, что это? – спросил.
Ванька замотал нечесаной и патлатой русой головой.
– Это лира, – каркнул старик. – Но не простая – кабацкая, она такая на свете одна всего. Заберешь ее у меня?
– Зачем? – изумился Ванька.
Старик хмыкнул.
– Жить вечно будешь. Если руки на себя не наложишь, сколько захочешь проживешь, без счета.
– Руки на себя накладывать – грех, – разозлился Ванька. – Брешешь сам не знаешь чего.
– А ты послушай. С кабацкой лирой бить тебя смертным боем будут – и не забьют. В каменном мешке гноить будут – и не сгноят. Казнить пожелают – не смогут. Слава о тебе будет, как ни о ком другом. Так возьмешь?
Повел Ванька плечами, поежился. Точно ведь брехал старый черт, а не поверить нельзя было. Словно строка из песни, что тот спел, в душу вошла – «я сомневаюсь в явном, верю чуду».
– Ну, возьму, – сдвинув брови, сказал Ванька. – И чего с ней делать?
– Чего хочешь, – зашептал старик. – Любые дела делай, с тебя всё будет как с гуся вода. Воруй, режь, казни – всё нипочем. И песни слагай, у тебя хорошие песни будут. За них и девки станут любить, а дела твои прощать. На, забирай. Только знай: когда устанешь, притомишься так, что сил никаких нет, что всё невмоготу, другого ищи.