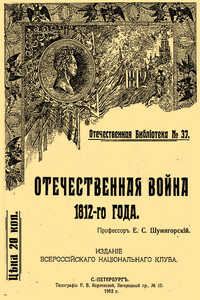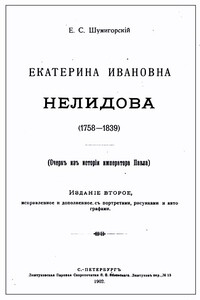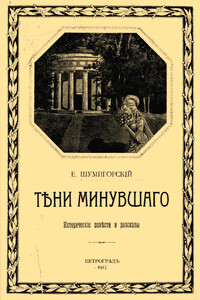Второй воспитательный период жизни Павла Петровича, при этих условиях, также не мог привести к благоприятным для его душевного спокойствия результатам. Беспристрастный его наблюдатель, Платон, рассказывал впоследствии, что «разные придворные обряды и увеселения не малым были препятствием учению; граф Панин был занят министерскими делами, но и к гуляниям был склонен; императрица сама лично никогда в сие не входила»[12]. Павел рос, таким образом, по-видимому, под исключительным надзором аккуратного своего «информатора» Остервальда. Но, при кажущейся беспечности, Панин тщательно следил за тем, чтобы цесаревич не вышел из-под его влияния. Что Панин не брезгал для этого никакими средствами, можно видеть из его отношений в самой императрице, которую он, пользуясь ее доверием к себе в делах, решался обманывать для достижения своих политических целей даже в более мелких случаях, утаивая от нее документы, давая ложные объяснения и не останавливаясь даже пред клеветой[13]. В XVIII в., более чем когда либо со времен Маквиавелли личная честность в делах политических на языке государственных людей называлась глупостью.
По воспитательному плану Панина, великий князь должен был в это время «приступить к прямой государственной науке, т. е. в познанию коммерции казенных дел, политики внутренней и внешней, войны морской и сухопутной, учреждений мануфактур и фабрик и прочих частей, составляющих правление государства». На самом деле «познание» это, как и многие другие прекрасные слова Панина, осталось в существенных своих частях только на бумаге. Цесаревич лишь впоследствии, самостоятельно, путем чтения и размышления, уяснял себе «государственную науку». Свидетельствуют об этом целые тома собственноручных выписок, сделанных из прочитанных им лучших произведений европейской литературы и сохранившихся до настоящего времени в библиотеке Павловского дворца. Преимущественной заботой Панина было дать «политическим мыслям» своего воспитанника известное направление. Каково было это направление — легко определить, назвав лиц, которые окружали Павла и, прямо или косвенно, знакомили его с «государственной наукой»: все это были единомышленники или клевреты Никиты Ивановича, не менее, чем сам он «сатирически» относившиеся к деятельности Екатерины. То были главным образом: брат Никиты Ивановича, генерал-аншеф Петр Иванович, не скрывавший своего убеждения, что править Россиею должен «прирожденный государь мужского пола, который мог бы заниматься обороной государственной», т. е. военной частью; то был известный интриган и политический талант — проходимец, Теплов, участник восшествия на престол Екатерины, присутствовавший при кончине Петра III в Ропше и допущенный Паниным к Павлу как единомышленник в борьбе с самодержавием Екатерины; то был, наконец, ближайший друг Панина, наглый голштинский выходец, «искатель счастья и чинов», Сальдерн, который сам охарактеризовал себя однажды, за обедом, великого князя, словами обращенными к графу Строганову: «вы те интриги крупными называете, кои я весьма мелкими почитаю». В этой обстановке положена была основа политического миросозерцания Павла Петровича: критическое отношение к правительственной деятельности матери, сочувствие к личности отца, бывшего будто бы лишь жертвой «дурных импрессий», и признание важного значения «военных мелкостей» на прусский образец; в то же время душа самолюбивого и впечатлительного великого князя отравлена была смутным чувством боязни и подозрительности в государыне-матери; взгляд Никиты Панина, что Екатерина явилась похитительницей трона, в ущерб правам сына, естественно, по мере развития жажды деятельности в Павле, — не мог не находить сочувственного отклика в тайниках его сердца. Так, в нежном еще возрасте, Павел переживал в своей душе тяжелую драму, являясь невольным выражением дворских и общественных настроений.
Как часто бывает, однако, вместе с ядом нечувствительно дано было Павлу его воспитателями и противоядие. «Сатирическое» отношение в Екатерине и ее деятельности всегда обосновывалось чувством «законности», «страданиями вернейших и усерднейших сынов отечества», т. е. всего народа, — и Павел постепенно привыкал ставить закон и благо народа во всем его целом, вне общественных классов, выше всех случайных факторов; слыша о дворских и гвардейских смутах и переворотах, произведенных высшим дворянством, Павел Петрович проникался сознанием, что благо народное может быть обережено лишь полнотою монархической власти, а не санкцией олигархических вожделений его воспитателя. Внутренняя борьба, происходившая в великом князе, облегчалась для него, кроме того, высокоразвитым религиозным чувством: по свидетельству его законоучителя Платона, «оно внедрено было в него императрицей Елисаветой Петровной и приставленными от нее весьма набожными женскими особами»