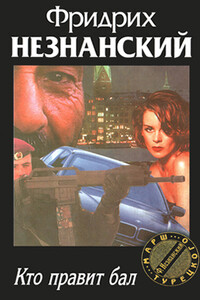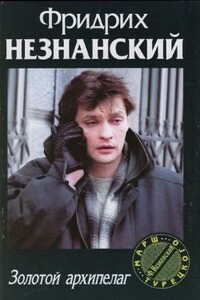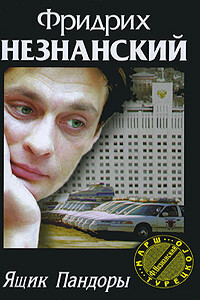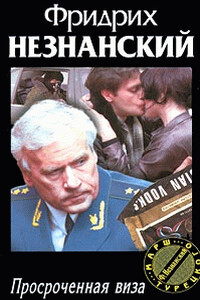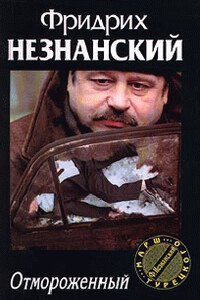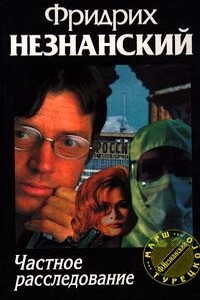Просто воспитал ее так — до той поры самый важный, самый главный человек в судьбе. Он полагал и убежденно внушал ей всегда, что без большой любви, без подлинного, всезатмевающего чувства это было бы... нехорошо, нечисто, а главное... Пошлость же для отца, почитателя Чехова, была самым страшным, самым бранным словом.
Но... отца уже не было тогда. Уже почти три месяца минуло после черных дней прощания с ним, после той, порой спасительной нервной беготни, неизбежно сопровождающей страшные покупки, похороны, поминки, вслед которым потом непременно наступает страшная тишина пустоты и немота. Все это пролетело, как в неправдоподобном, но до боли, до рези в глазах отчетливом жутком сне, а потом... спустя всего несколько дней она вдруг словно очнулась и поняла, что осталась совершенно одна в этом огромном городе, отныне и до конца дней — круглой сиротой.
Где-то жили-были почти незнакомые дальние родственники — в Москве, в Питере, за Уралом, а в Степногорске не было никого, ни души, только могилы на кладбище. Отучившись, отзанимавшись на лекциях и в библиотеке, она покупала по дороге домой какой-нибудь немудрящей еды, приходила в опустевшую большую квартиру и только тут выдержка отказывала ей, она безмолвно падала ничком на старую отцовскую тахту в его кабинете, и здесь, уже не сдерживаясь, давала волю слезам, уткнувшись лицом в его подушку.
А умер отец в другой, в большой комнате, умер при ней, когда они, будто оцепенев, смотрели, как ярким солнечным днем на глазах у всего мира танки стреляют и стреляют по пылающему Белому дому над Москвой-рекой. Нет, он не вскрикнул, не упал, не схватился за сердце. Умер тихо и благородно, как жил, как только и умел жить — по совести, по Чехову: в человеке все должно быть прекрасно. Даже — смерть. Вот так и умер он, Сергей Степанович Санин, — от страшной боли в душе, от острой иглы, насквозь проколовшей будто обуглившееся тем октябрьским дымом изношенное сердце. Лишь на минуту, увидев, как вдруг он побледнел, вышла она на кухню, чтобы накапать ему его спасительные капли Вотчала... А когда вновь вошла в комнату, вернулась с лекарством в руке, его уже не было. Он сидел в том же кресле, с головой, упавшей на грудь, и закрытыми глазами, будто не желавшими больше никогда видеть то, что видели последним на экране. Она остановилась на пороге, все сразу поняв по мгновенно изменившемуся, усталому лицу, по вдруг обмякшему, неживому телу, но все равно как будто не веря себе, не желая поверить, и даже... окликнула его...
Он был известным человеком в городе, крупной величиной не только в масштабах их области, но и во всей оборонной отрасли, и, как водится, похороны были устроены помпезные, соответственно официальному положению, регалиям и чину, но которые никак не шли к нему, оставшемуся до гробовой доски человеком скромным, не любившим излишнего шума, а уж тем паче многолюдной суеты вокруг себя.
И вот осталась она одна, и хочешь не хочешь, надо было жить дальше. И тогда же, как ни странно, а может быть, и обычно, согласно стандартам людского мироустройства, со смертью ее отца, весьма влиятельного человека, враз исчезли куда-то оба ее еще недавно столь преданных ухажера. Видно, что- то сразу обессмыслилось для них, ребят земных и практичных. «Деактуализировалось», говоря выспренним, но точным научным языком.
То время многое показало, многое объяснило, многому научило. И она смотрела на все вокруг с каким-то новым интересом узнавания дотоле неведомой объективной реальности. Вакуум, в котором оказалась она тогда, был поразительным, неправдоподобным. В нем было пусто и холодно, но там хорошо думалось и многое очищалось, освобождалось от случайных напластований, открывая подлинное лицо суровой и бездушной жизни.
Что оставалось? Чем, кроме учебы, книжек и прелюдий Шопена — то из динамиков проигрывателя, то слетающих с клавиш старого немецкого пианино, — можно было жить и дышать в этой пустоте?
И она занималась, грызла гранит — философию, социологию, политэкономию, читала стихи и прозу, о чем-то разговаривала с подругами, играла Шопена и Рахманинова, слушала кассеты и пластинки... Большой японский телевизор так и не был включен больше ни разу с того дня, четвертого октября.