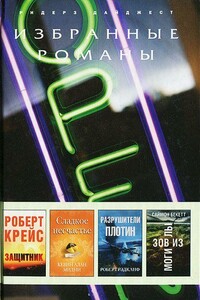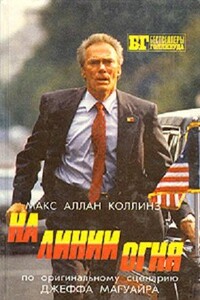Словно надпись «люблю» на снегу,
И о том, как чужое тепло
Сердце льдом обмело, как в пургу,
И о том, как краснел до ушей
И не смел прикоснуться к руке,
И о том, как нарвал камышей
На сиреневой смутной реке...
Все пройдет, отлетит, говорят,
Ночь застелит туманами встреч,
Но о том, как прекрасен закат,
Буду помнить, и – буду беречь
Тот наивный и любящий взгляд,
Что связал нас – полжизни назад
[1].
Человек счастлив тогда, когда его ждут. Когда без него одного – безлюден весь этот большой мир с морозами, пустынями, степными ветрами, звездами, океанами... Когда ему есть куда возвращаться.
А мне возвращаться было некуда. И не к кому. Она ушла зимой. Я ждал ее, звонил, а когда она все-таки пришла за чем-то оставленным, спросил: «Мы поссорились или расстались?» Она ответила: «Мы расстались». И все кончилось. Странный я человек: никогда не готов к расставанию. Или – к нему никто и никогда не готов?
Смотреть на зимнюю московскую слякоть и ждать слякоти весенней мне было невмоготу. И я уехал на Саратону. Солнца здесь куда больше, чем в России. Вдоволь. А счастья?
Саратона – остров. С одноименным городом на побережье, который местные жители пышно именуют столицей, с пляжами вдоль всех трех берегов, кроме западного, обрывистого и крутого, со множеством больших и малых особняков, как принадлежащих грандам мировой элиты, так и сдающихся внаем, с вечнозелеными кустарниками, пальмами и всегда теплым в этих местах океаном.
Мы, четверо спасателей, работающих на обширном участке пляжа, принадлежащего со всеми кафе, шале, бунгало, каруселями и маленьким городком аттракционов в лесопарке отелю «Саратона», самому дорогому из дорогих и престижному из престижнейших, не уступающему знаменитому лондонскому «Королю Георгу», жили чуть в стороне от Саратоны, на высоком обрыве над простором океана, к которому сбегала бог весть сколько веков назад вырубленная в скале тропка, увитая зарослями жимолости, жасмина и дикой розы.
Я, Олег Дронов, Фред Вернер, Элизабет Кински и Диего Гонзалес разместились в четырех трейлерах, расположенных четырехугольником; пятый, хозяйственный, располагался чуть в стороне. Естественно, имелись все удобства и даже душ горячий у каждого – Европа все-таки, хотя вокруг и Атлантика. Есть у нас и общая терраса, увитая дикими розами, виноградом, укрытая сверху рыбацкой сетью; широкий деревянный стол, керамические светильники, свечи, большие, врытые в землю амфоры, в которых пламенеют цветы... Жить можно.
Диего был здесь старожилом: почти пять лет. Остальные подтянулись кто прошлой зимой, кто нынешней весной. Спрашивать друг у друга, почему каждый из нас здесь, считается бестактным. Потому мы друг у друга ничего и не спрашиваем. Каждый рассказывает о своей прошлой жизни только то, что считает нужным.
Просто все мы прежнюю жизнь уже завершили, а к новой не прибились... Еще не прибились или уже? Бог знает. Или – мы просто ждем? Чего? Никто не скажет. Так уж устроены люди: каждый полагает, что в жизни его все сложилось бы иначе, если бы... А вот это «если» каждый тоже выдумывает себе сам.
Навстречу мне шагал Фрэнк Брайт – пляжный служитель при каруселях и комнате смеха. С виду был он тщедушен, не жилист и не силен; пожалуй, он вызывал бы сочувствие, если бы не его всегдашняя язвительность, порою остроумная, но часто – злая. Злится ему было от чего: именно про таких индивидуумов сказал некогда Франсиско Гойя: «Есть люди, у которых самая непристойная часть тела – это лицо». Лицо Фрэнка Брайта было сморщено, как засохшая груша: обширный ожог рубцевался как попало, да еще и шрам с левой стороны кривил рот, оставляя его полуоткрытым в постоянной ухмылке; да еще и два неровных передних зуба... Все это делало Фрэнка похожим на мультяшного персонажа.
– Привет, Дрон.
– Привет, Фрэнк. Что поздно сегодня?
– Да парочка влюбленных на карусели закружилась. Потом дали хорошие чаевые, попросили запустить их в «лабиринт». А мне что? Любой каприз за ваши деньги. Уж они там порезвились, я вам доложу, как тысяча мартовских котов. И – кошек, разумеется.
«Лабиринтом» называлась еще одна комната, полная косо поставленных зеркал – любой дробился в них в десятках, сотнях, тысячах отражений, теряясь в этом Зазеркалье и повторяясь в нем бесконечно...