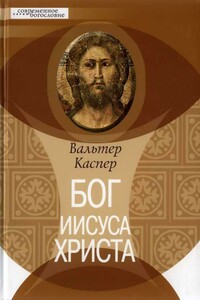За этим прежде всего стоит не спекулятивный интерес, а сотериологическая задача, которую постоянно выделял Афанасий: если Христос не истинный Бог, то тогда и мы не искуплены, ибо только бессмертный Бог может освободить нас от подверженности смерти и даровать нам участие в полноте своей жизни. Таким образом, учение об истинном божестве Иисуса Христа должно быть понято в рамках всей древнецерковной сотериологии и ее идеи об искуплении как обожествлении человека. Сотворенный по образу Божьему человек может достигнуть своего истинного и собственного бытия только через участие (μέθεξις) в жизни Бога, то есть через уподобление Богу (όμοίωσις θεού). Однако после того как образ Божий был искажен грехом, Бог должен был стать человеком, чтобы мы были обожествлены и вновь достигли познания невидимого Бога. Это физическое (= бытийное) учение об искуплении не имеет ничего общего с физико–биологическим, даже магическим пониманием спасения, как это часто утверждается. За ним стоит скорее древнегреческая идея о воспитании (παιδεία) человека посредством подражания и участия в видимом в отображении образе божественного прообраза[402].
Как всякий поздний собор, Никейский собор был не только концом, но одновременно началом новых споров. Время после Никеи было одним из самых темных и запутанных в истории Церкви. Объективная основа новых столкновений заключалась в неясности понятия ομοούσιος в Никейском исповедании. Многие считали, что в нем не соблюдено различие между Отцом и Сыном, и поэтому подозревали в этом понятии скрытый модализм. Они были бы удовлетворены, если бы в нем была добавлена одна буква, и если бы вместо понятия ομοούσιος (единосущный) употреблялось близкое όμοιούσιος (подобносущный). Но с другой стороны, в этом понятии подозревали умеренное арианство (полуарианство). Выход из этого затруднительного положения был показан великими каппадокийцами (Василием, Григорием Назианзином, Григорием Нисским) в различении между одной сущностью (ουσία) и тремя ипостасями (ύπόστασις). В тогдашней философии этого различения не существовало; оно является оригинальным вкладом богословия в процесс столкновения мысли с реальностью христианской веры. Правда, под ипостасью понимали тогда не личность, а скорее индивидуальность, конкретное осуществление сущности в целом[403]. Каким бы неудовлетворительным ни было для нас сегодня это определение, оно, однако, по меньшей мере означает то, что общую сущность не рассматривали больше как высшую, и что греческое сущностное мышление было направлено в сторону персональной мысли. Во всяком случае, этим был открыт путь для следующего собора, считающегося вселенским, — первого собора в Константинополе (381).
Этот второй Вселенский собор не сформулировал никакого нового христологического учения; скорее, он подтвердил Никейское исповедание и вновь тем самым заявил о своей причастности к традиции. Насколько однако живо понимал этот собор предание, свидетельствует то обстоятельство, что он не побоялся изменить ту формулу Никеи, которая вызывала ложные толкования и оказалась недостаточной в свете развившегося тем временем богословия. Выпала никейская формула «рожденный из сущности Отца» (см. DS 150; NR 250). Для этого никейская христология в позитивном смысле была дополнена — с учетом лжеучений, оспаривавших истинное божество Святого Духа (пневматомахи) — соответствующей пневматологией, и тем самым выведена на новейший уровень сознания веры и богословия.
Никео–Константинопольский символ веры по сей день является официальным литургическим символом церкви; кроме того, он поныне представляет собой исповедание, объединяющее все великие церкви Востока и Запада. Как проблема актуализации церкви в живой связи с ее традицией, так и вопрос о единстве разделенных церквей, существенно решаются в аспекте этого в собственном смысле слова вселенского исповедания. Дискуссия об этом ведется в ключе эллинизации и деэллинизации христианства. Для представителей либеральной истории догматов, особенно для А. фон Гарнака, догма была «творением греческого духа на почве Евангелия». Евангелие и догма соотносятся не просто как заданная тема и ее необходимое осуществление; между обоими появляется новый элемент: профанная мудрость греческой философии