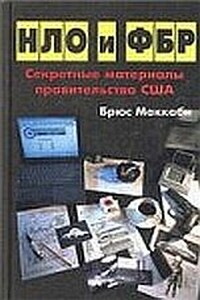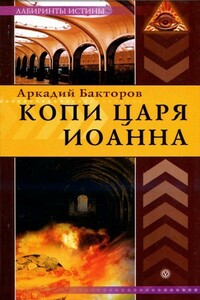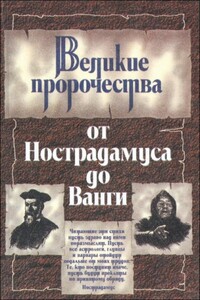Хотя хозяева голосов были потрясены увиденным, и это оправдывало мои рассказы им о моем прошлом уме, им этого, понятно, было мало, как и мне. Думать в целостности я все равно не научился, а значит, и не мог аурой закрывать свою голову от их и Павитринского супраментального прослушивания. Я напряг свою голову в другом ракурсе - историко-социальном. Теперь уже справа от моей головы стала разворачиваться картина заселения Амура казаками. Когда Усть-Зейская станица стала Благовещенском 1994 г., а казаки - современными ему гражданами, моя мысль опять остановилась. Теперь я решил направить мышление на воспоминание своего прошлого и обдумывания им его. Я изо всех сил напряг голову, вспоминая свою работу в Усть-Ивановке, как вдруг с левого полушария приподнялось нечто полевое и как на крыльях перенесло меня в деревню. Я оставался сидеть в кресле, и то, что я видел, скорее всего было моим зрительным образом, хотя это утверждать не могу. Но чувство было таким, будто это пленка, приподнявшись над головой и не отрываясь от нее, перенесла меня в ту деревню. Идти в будущее я не пытался. В этом не было смысла, так как его творит человек сам. Альтернативы же путей развития человечества очень хорошо показаны Вангой, Ури Геллером и Ностардамусом. Оно целиком зависит от духовности его творящих, а последняя творила ими самими. Если ты уверен, что будет так, зачем говорить об этом? Хотя, может, и стоит. Не лучше ли сказать, как сделать, чтобы было лучше, чтобы можно было избежать ошибок. Тот факт, что все, имеющее свое начало, имеет и свой конец, и стало моим главным камнем преткновения. Я не видел смысла начинать думать опять, зная, что это скоро закончится из-за исчерпывания объекта обдумывания. Другое дело, казалось мне, создать вокруг себя мыслеформу ауры, защитившую бы меня от прослушивания. Но это, подобно мышлению, требовало колоссального напряжения, так как психика казалась спрессованной. Спрессованной от попыток начать думать. Напряжение само ее прессовало. Думать было интересно. И передо мной легли два пути - интеллектуальный и инсайтный (прямое знание, знание-взгляд). Тогда я понял, что для того, чтобы понять, где это (сюжет психоза) все происходит - в реальности или только у меня в психике - надо понять степень и конкретно вину Павитрина в моем попадании в больницу. Я направил все свое внимание на воспоминание своего прихода к Вадиму в октябре 92 г., когда он проявил испуг, услышав от меня, что я знал мысли Славы обо мне, когда он находился в Моховой Пади. Спустя три дня непрестанной работы головой в этом направлении (в то время, как я продолжал жить, курсируя между огородом и домом), после воспоминания своим уже новым осветляющимся сознанием деталей углубления в психоз меня вдруг озарила вспышка: он испугался просто потому, что мог подумать, что я также мог "слышать" его некоторые нелицеприятные мысли обо мне. С этой мыслью пришло такое облегчение, что я онемел. Тогда почему я его ненавижу? Я опять стал копаться в себе. И понял. Только из-за отношения. Оно же породило и мои переживания с галлюцинациями. Раджниш говорил: не будьте танцором, будьте танцем. Я не был ненавидящим, я был самой ненавистью к нему и Сатпремову. Это позволяло ненавидящему сохранять холодный ум и относительное спокойствие. Оставалось только накопить сил для удара. И я, как одержимый, бросился в тренировки.
Я был истощен настолько, что сам себе казался ходячей смертью. Казалось, что меня качает ветер. Сидя однажды в огородном доме, я измученно обратился к Богу: "Ну что мне теперь-то нужно делать?" В правом полушарии, описывая зигзаги, огибая какие-то структуры мозга пунктирной лентой, потекли слова: "Не отвечать!" Эти слова были знакомыми, и что они означают, я знал. Но я не знал как не отвечать - на наносимые удары, или вообще не разговаривать с людьми и даже встреченными знакомыми. Последнее меня не удивляло. Я жил не в Благовещенске, а в Космосе, и чувствовал себя странником. Я стал стараться не разговаривать вообще, насколько это было можно. Это было и мне на руку, так как буквально каждое сказанное лишнее слово даже старым знакомым, как правило, приносило мне жгучую боль. Молчание будто накапливало мне нечто, в чем я отдыхал, и что давало мне какую-то, хоть липовую, но защиту от людей. Но, будучи фанатиком, я им не был. Там, где требовалась моя помощь, я говорил столько, сколько было надо.