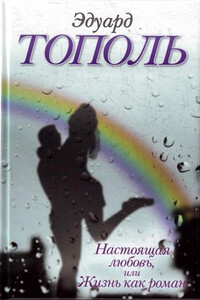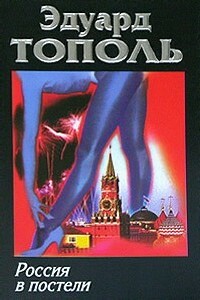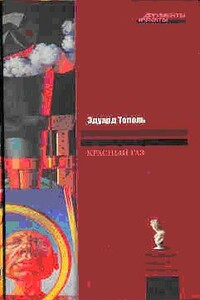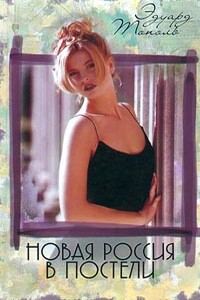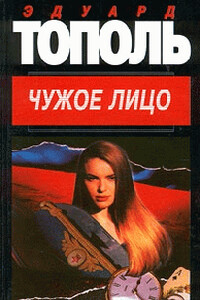Нет, если бы мне пришлось преподавать во ВГИКе, я бы первые занятия с режиссерами посвятил не системе Станиславского, а системе закалки характеров по программе боевой подготовки спецотряда «Альфа» – для преодоления собственной «гениальной» расхлябанности и чудовищного бедлама, который называется «кинопроизводство». И зачеты у своих студентов принимал бы только по одному показателю: сколько процентов литературной записи донесено до экрана? Даже если ты и вправду гений, даже если ты новый Тарковский или Параджанов – пожалуйста, напиши все, что ты выдумал, на бумаге, закодируй это словами до последней ноты, как Чайковский кодировал в ноты свою гениальную музыку, а потом перенеси это на экран, сумей – через весь бедлам оргработы, вопреки капризам природы и актеров – донести до экрана, не пролив, каждую каплю твоей замечательной или ужасной выдумки. И чем талантливее были бы мои студенты, тем больше я бы настаивал на том, чтобы сначала они научились снимать самое простое, элементарное и даже однозначное, как детские кубики. Осень, ревность, жажда, азарт, смерть, похоть – тридцать метров пленки на каждое состояние души и природы. И только потом, когда они освоили бы эту азбуку, я позволил бы им снимать – по слогам! – их первые сюжетные этюды. А затем, заставив их освоить киношные азы так свободно, как музыканты осваивают упражнения Черни, – только после этого я стал бы вводить их в алгебру настоящей режиссуры: в умение извлечь из литературного произведения и превратить в партитуру фильма ту особую киномузыку, которая и называется киноискусством. Потому что, конечно, одним арифметическим складыванием кубиков-сцен «кина» не сделать…
Впрочем, ладно, оставим теорию, вернемся в начало семидесятых…
Мы прилетели в Одессу, и в первый же день директор студии в честь знакомства и под мою коротенькую заявку на морской сценарий не только выдал нам аванс размером аж в тысячу рублей, но и доверительно показал мне очередной запрещенный фильм Киры Муратовой «Долгие проводы» с Зинаидой Шарко и Ниной Руслановой в главных ролях.
Я смотрел этот фильм один, поздно вечером, в закрытом директорском просмотровом зале. Когда я вышел на улицу, было уже десять вечера, черная южная ночь накрывала студию, ее низкие павильоны и каштаны за ее проходной. В каком-то кабинете горел свет, я заглянул туда, там сидела синеглазая красотка Нина Гусилевская, секретарша сценарной коллегии и одна из шести бывших жен Радия Гусилевского, режиссера детских фильмов. Я спросил у нее, где живет Кира Муратова.
– А в моем доме! – сказала Нина. – Ну, то есть в студийном, через дорогу от студии. Где я живу, Гусилевский, Тодоровские и Збандут. А Кира – на втором этаже, первая дверь слева.
Я вышел со студии. Морской ветер гнал по улице серые катышки тополиного пуха, и полная майская луна блестела в трамвайных рельсах, проходящих вдоль студийного забора. Я сел в подошедший трамвай и, нянча в душе каждый кадр «Долгих проводов» так, как нянчит – по словам Иосифа Уткина – «девочка больную куклу, как руку раненый солдат», отправился в центр города. Я хорошо понимал, что я только что увидел настоящий шедевр киноискусства. Шедевр, который никто не увидит никогда, потому что советская власть никогда не выпустит на экраны такой фильм. Это было непреложно, я был уже взрослый мальчик и знал правила игры.
В центре Одессы, где-то на Приморском бульваре, я нашел цветочный киоск, купил букет цветов и снова трамваем вернулся к студии. Четырехэтажный кирпичный дом, в котором жили Тодоровские, Гусилевские и все остальные студийные сотрудники, стоял напротив студийной проходной, в тени пышных каштанов. Я вошел в полутемное пыльное парадное и по стоптанным ступеням, вдоль ядовито-зеленой стены с выцарапанными на ней словами из трех и пяти букв поднялся на второй этаж. Слева от лестничной площадки была стандартная бурая дверь с номером 15 и черной кнопкой звонка. Приглушая колотившееся сердце, я нажал эту кнопку. С таким душевным трепетом звонят, наверное, поклонницы к Феллини, Мастроянни и Вячеславу Тихонову.
Дверь открылась удивительно быстро, почти тотчас. За ней, подоткнув за пояс подол холщовой юбки, стояла невысокая, круглолицая молодая женщина с мокрой половой тряпкой в руках. У ее босых ног на мокром полу зияло ведро с темной водой, и капли такой же темной воды капали в это ведро с грубой мешковины ее половой тряпки.