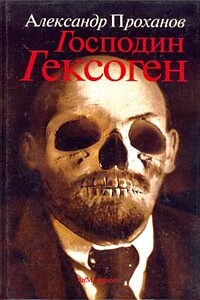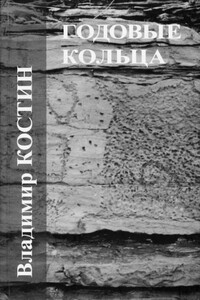– Ты мне вазу подарил, Косой!.. А ты бы мне лучше чеченские уши подарил!.. Чтоб я из них кошельков понаделал!.. Или на подошвы пустил!.. Дома в чеченских ботинках на свадьбе сплясал!..
Все соглашались, не возражали сержанту. Пушков чувствовал в себе угрюмую ожесточенность, которая здесь, в Грозном, была слепым ответом на постылую гражданскую жизнь.
– Нельзя уши резать… Озвереешь… Детей и женщин жалеть надо… У них от горя глаза провалились…
Это сказал в тишине негромким печальным голосом солдат Звонарев, по прозвищу Звонарь, бледный, с вытянутым нездоровым лицом, на котором от забот и усталости пролегли тонкие преждевременные морщинки. Среди этих процарапанных линий, провалившихся щек, пороховых точек и мазков сажи сияли тихие голубые глаза, которыми он грустно и ясно обвел товарищей. Словно жалел их за ожесточение и очерствение душ, за единственную оставленную им свободу – убивать, умирать.
– Это что за каракатица слюнявая!.. – Клык изумленно посмотрел на Звонаря, посмевшего посягнуть на его превосходство. Замахнуться на его мудрость и первенство. Осудить перед товарищами в час его торжества. – Ты что, вонючих бородачей пожалел? Тех, кто пулю тебе в брюхо шлет? Кто твои кишки на кулак намотает? Выродков ихних жалеешь? Да они вырастут, к тебе в дом придут, твоих детей зарежут. Они кровной местью живут. Покуда их не выбьешь всех, до последнего грудного младенца, они тебя искать станут! И найдут, когда ты спать будешь!..
Клык был прав, солдаты с ним соглашались. С тех пор, как они оставили лагерь с брезентовыми шатрами, удобными землянками и вместительными окопами, с боевыми машинами, зарытыми в капониры, с банями, лазаретами и походными кухнями, с командирскими кунгами, над которыми поднимались штыри и сетки антенн, с тех пор, как ушли с черного, измятого колесами и гусеницами поля, похожего на пластилин, и стали вгрызаться в город, – в них, с каждой потерей и раной, нарастала ненависть к неутомимым чеченским стрелкам.
Пушкова неприятно задели слова Звонаря. Их неуместность была подобна музыкальному звуку, случайно возникшему среди визга и скрежете, как если бы кто-нибудь в клепальном цехе или у циркулярной пилы невзначай коснулся рояля. Чистый звук, печальный и искренний, взгляд голубых сострадающих глаз были помехой. Нарушали грубую простоту их солдатского праздника, которым они хотели укрепить себя перед боем.
– Мне людей жалко, домов жалко. Столько красивых домов разрушено. Люди их строили, украшали, мебель себе покупали. Хотели жить, семьи свои берегли. Ордена получали за хорошую работу. А теперь все горит…
Звонарь был один против всех. Навлекал на себя всеобщее раздражение. Возбуждал гнев Клыка, который тянулся к нему через коптилки, золоченые тарелки, объедки хлеба и сала. Хотел схватить за расстегнутый ворот, из которого тянулась худая длинная шея. Ударить в продолговатую голову с бледным лбом и чистыми голубыми глазами. Пушкова вдруг поразила их прозрачная чистота, незамутненная синева. Среди копоти, тусклой пыли, неверного колебания коптилок они одни сохранили цвет, похожий на тот, что бывает в вершинах мартовских голых берез.
– Ты что, с чеченами снюхался? У тебя родня – чечены? Может, перебежчиком станешь? В ихние банды наймешься? Может, ты ихнюю веру примешь!.. – Клык жарко дышал сквозь мокрые зубы, презирал, издевался. Его огромный кулак тянулся к Звонарю. Был готов толкнуть к стене с прислоненными гранатометами и «шмелями». – То-то я смотрю, ты воюешь, как таракан недомеренный!.. В небо стреляешь, в ямках отлеживаешься!.. Ты почему гранату не кинул, когда магазин брали? Я тебе крикнул: в подвал фанату! А ты, сука, не кинул! Может, чеченку с ребеночком углядел?.. А оттуда очередью Хрусталева достало!.. Ты, гнида, виноват в его смерти!.. Поезжай теперь к нему в деревню с гробом, матери его расскажи, как ты другу своему пулю добыл!..
Неудержимое и безумное колотилось в огромном теле Клыка, подымало его с ковра, заносило над головой Звонаря стиснутый тяжелый кулак.
– Отставить!.. – командирским рыком Пушков закупорил бешеную, клокотавшую в Клыке ярость. Заставил его шмякнуться на подушку. Сержант схватил бокал, жадно, с хлюпанием, выпил. И пока Клык пил, двигал жилами, кадыком, небритым подбородком, Звонарь смотрел на него сострадающими глазами. Не обижался, жалел. Пушков не умел разгадать причину этого сострадания, природу мартовского синего цвета.