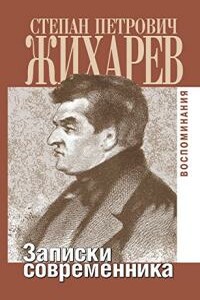Как только он уехал, я начала приходить от ужаса в себя: что же это? ведь я ничего уже к нему и не чувствую, а что я выделывала! Мне было и стыдно за себя, и жаль его, но выбора уже не было. Я написала ему, что не люблю его и просила не приезжать. Он негодовал, засыпал меня письмами, жаловался на меня всякому встречному; это было даже более комично, чем противно и из-за этого я не смогла сохранить к нему даже дружбу.
Мы уехали в Шахматове рано. Шахматове - тихое прибежище, куда и потом не раз приносили мы свои бури, где эти бури умиротворялись. Мне надо было о многом думать, строй души перестраивался. До тех пор я была во всем покорной ученицей Саши; если я думала и чувствовала не так, как он - я была не права. Но тут вся беда была в том, что равный Саше (так все считали в то время) полюбил меня той самой любовью, о которой я тосковала, которую ждала, которую считала своей стихией (впоследствии мне говорили не раз, увы, что я была в этом права). Значит, вовсе это не "низший" мир, значит, вовсе не "астартизм", не "темное", недостойное меня, как старался убедить меня Саша. Любит так, со всем самозабвением страсти - Андрей Белый, который был в те времена авторитет и для Саши, которого мы всей семьей глубоко уважали, признавая тонкость его чувств и верность в их анализе. Да, уйти с ним это была бы действительно измена. У Л. Лесной " есть стихотвореньице, которое она часто читала с эстрады в те годы, когда я с ней играла в одном театре (Куоккала, 1914). "Японец" любил "японку одну", потом стал "обнимать негритянку"; но ведь он по-японски с ней не говорил? Значит, он не изменил, значит она случайна..." С Андреем Белым я могла бы говорить "по-японски"; уйти с ним было бы сказать, что я ошиблась, думая, что люблю Сашу, выбрать из двух равных. Я выбрала, но самая возможность такого выбора поколебала всю мою самоуверенность. Я пережила в то лето жестокий кризис, каялась, приходила в отчаяние, стремилась к прежней незыблемости. Но дело было сделано; я увидела отчетливо перед глазами "возможности", зная а то же время уже наверно, что "не изменю" я никогда, какой бы ни была видимость со стороны. К сожалению, я глубоко равнодушно относилась к суждению и особенно осуждению чужих людей, этой узды для меня не существовало.
Отношение мое к Боре было бесчеловечно, в этом я должна сознаться. Я не жалела его ничуть, раз отшатнувшись. Я стремилась устроить жизнь, как мне нужно, как удобней. Боря добивался, требовал, чтобы я согласилась на то, что он будет жить зимой в Петербурге, что мы будем видеться хотя бы просто как "знакомые". Мне, конечно, это было обременительно, трудно и хлопотливо бестактность Бори была в те годы баснословна. Зима грозила стать пренеприятнейшей. Но я не думала о том, что все же виновата перед Борей, что свое кокетство, свою эгоистическую игру я завела слишком далеко, что он-то продолжает любить, что я ответственна за это... Обо всем этом я не думала и лишь с досадой рвала и бросала в печку груды писем, получаемых от него. Я думала только о том, как бы избавиться от этой уже ненужной мне любви, и без жалости, без всякой деликатности просто запрещала ему приезд в Петербург. Теперь я вижу, что сама доводила его до эксцессов, тогда я считала себя в праве так поступать, раз я то уже свободна от влюбленности.
Вызов на дуэль был, конечно, ответ на все мое отношение, на мое поведение, которого Боря не понимал, не верил моим теперешним словам. Раз сам он не изменил чувств, не верил измене моих. Верил весенним моим поступкам и словам. И имел полное основание быть сбитым с толку. Он был уверен, что я "люблю" его по-прежнему, но малодушно отступаю из страха приличия и тому подобных глупостей. А главная его ошибка - был уверен, что Саша оказывает на меня давление, не имея на то морального права. Это он учуял. Нужно ли говорить, что я не только ему, но и вообще никому не говорила о моем горестном браке. Если вообще я была молчалива и скрытна, то уж об этом... Но совершенно не учуял основного Сашиного свойства. Саша всегда становился совершенно равнодушным, как только видел, что я отхожу от него, что пришла какая-нибудь новая влюбленность. Так и тут. Он пальцем не пошевелил бы, чтобы удержать. Рта не открыл бы. Разве только для того, чтобы холодно и жестоко, как один он умел, язвить уничтожающими насмешками, нелестными характеристиками моих поступков, их мотивов, меня самой и моей менделеевской семьи, на придачу.