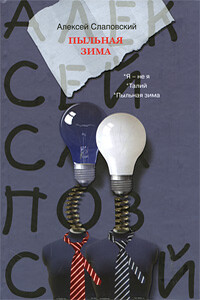Двери лифта открылись, и Холодцов увидел соседа с восьмого этажа, о котором он ничего не знал, кроме того, что это сосед с восьмого этажа.
– Здравствуйте, – сказал Холодцов и вошел в лифт.
– Здрасьте, здрасьте! – ответил сосед с какой-то странной веселой иронией.
Холодцов встал рядом с ним, лицом к дверям, потому что это естественно – вставать лицом к дверям, чтобы сразу же выйти, когда они отроются.
Таким образом, Холодцов оказался плечом к плечу с соседом и не имел возможности прямо посмотреть на него. А посмотреть хотелось: с чего вдруг тот его так поприветствовал? Ирония, улыбочка чуть ли ни ехидная – что они означают?
Холодцов попытался скосить глаза. Не получилось. Он вспомнил, что ни на кого никогда не скашивал глаз, смотрел прямо и открыто. Интересные вещи иногда узнаешь о себе, несмотря на сорок с лишним прожитых лет! Ему в голову никогда не приходило, умеет ли он скашивать глаза, то есть смотреть искоса или исподлобья – не было в этом необходимости. Но сейчас-то какая необходимость, что его встревожило?
Неожиданность встревожила.
Посудите сами: посторонний человек вдруг обращается к вам не просто по-свойски, а фамильярно, да еще с каким-то двойным смыслом, будто знает вас как облупленного.
А сосед не может знать Холодцова как облупленного, хоть и живет в квартире прямо над ним.
Постойте, минутку. Над ним. Разделяет только потолок. Может, он сквозь потолок (то есть для соседа это пол) услышал что-то, показавшееся ему смешным или глупым, вот он и усмехается с обывательским высокомерием человека, у которого никогда в жизни не бывает ничего смешного и глупого.
Холодцов вспомнил вчерашний вечер. Он вернулся с работы, поужинал с женой Оксаной, четырнадцатилетним сыном Платоном и восьмилетней дочерью Полиной, посмотрел телевизор, включив его на умеренную громкость. В одиннадцать лег спать. Все, как обычно, как всегда, никаких поводов для усмешек и иронии. Ни застольного пения, ни музыки на полную мощь, ни скандалов, ни веселых или печальных криков – ничего не было.
Непонятно.
Тем временем лифт доехал до первого этажа. Холодцов помедлил, давая возможность соседу выйти первым.
Но тот не торопился. Словно хотел проводить Холодцова насмешливым взглядом в спину, полюбоваться, как неловко и мешковато Холодцов будет удаляться, подтверждая неуверенной походкой свою вину.
Какую еще вину, что за чушь мне мерещится? – возмутился мысленно Холодцов и шагнул вперед.
И пошел довольно ровно. Даже, пожалуй, ровнее обычного, вернее, как бы свободнее, с более энергичным покачиванием плеч, будто не на работу собрался, а прогуляться, пофланировать по улице от нечего делать.
Но тут же себя одернул: ради чего я стараюсь? – и перешел на обычный аллюр, однако выяснилось, что обычным аллюром идти стало почему-то трудно, будто Холодцов забыл, как это делается. В результате походка получилась все-таки именно мешковатой и неловкой; Холодцов не оборачивался, но был почти уверен, что сосед откровенно и издевательски скалится, наблюдая за его маневрами.
Дойдя до машины и сев в нее, Холодцов передохнул, вытер ладонью пот (с утра было уже довольно жарко) и положил руки на успокоительную округлость руля. И тронулся, и поехал. Езда всегда действовала на него благотворно, он передвигался неспешно, аккуратно, чувствуя себя дружественным хозяином автомобиля и нежадным пользователем покрываемого автомобилем пространства.
Вот и сейчас постепенно вливалось в тело состояние привычного умиротворения.
За время дороги, слушая радио и рассеянно думая о чем-то неопределенном, Холодцов забыл о пустяковом эпизоде. Но приехал на работу, вошел в лифт, чтобы подняться на свой этаж, и лифт ему опять все напомнил.