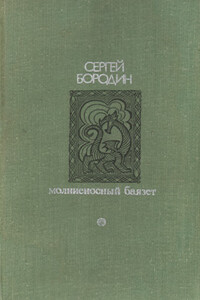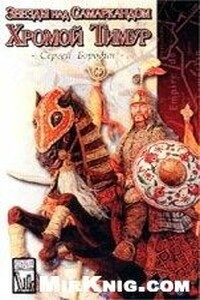Наконец Мухаммед-Султан откинул голову как бы в раздумье и дал знак, чтобы Искандера подвели к нему.
— Насмотрелся — спросил правитель.
— Вдосталь.
— То-то!
В этом восклицании Искандеру послышался дедушкин голос, и его бледное, твердое лицо улыбнулось.
Худайдада из-за спины правителя слушал ответы Искандера, расставив ноги, вытянув вперед и наклонив набок седую голову. Мухаммед-Султан милостиво спросил:
— Боялся?
— Нет.
Мухаммед-Султан смутился:
— Как это… нет? А если б я не захотел помиловать?
— А что бы сказал дедушка? Ведь вы…
Мухаммед-Султан, нахмурившись, потупился:
— Что я?
— Вы сыграли тут то же зрелище, которое дедушка придумал дяде Мираншаху. То же самое. Я за себя не тревожился, я знал: вы ничего своего не придумаете.
— Это как же так?
— Вы — тень дедушки. Только тень, увы!
Худайдада отодвинулся от Мухаммед-Султана и попятился.
Но Мухаммед-Султан придвинулся к Искандеру, тоже побледнев, и отрывисто, тихо сказал:
— У большого человека и тень большая, а воробей, как ни прыгай… я сам погляжу, как это ты предстанешь перед дедушкой, как будешь стоять, что станешь сказывать!
— И предстану, и скажу! Он поймет, он разберется!
— И станешь!
— От души! Только б скорей.
И опять Мухаммед-Султан смутился:
— Перед самим перед дедушкой!
— Только б скорей!
— Ну… когда призовет.
Астраханский снег, приглаженный морозными степными ветрами, блистал наледью и стал столь скользок, что по улицам люди ходили гужом, держась один за одного, но на пригорках, случалось, с бранью и смехом валился весь гуж, и потом все подолгу поднимались, на четвереньках пятясь до нехоженой обочины.
По оледенелой тропе Геворк Пушок шел, как канатоходец над пропастью, пока достиг ворот русского постоялого двора.
Здесь, на подворье, жили купцы из Москвы и Твери, и двери их, обитые войлоком, плотно закрытые, не выпускали тепла наружу. Купцы сидели в исподних портках, босые, сообща готовя обед. Один, промыв кусок баранины, еще мокрыми руками резал мясо на небольшие части; другой крошил лук; третий мыл котел; четвертый, нащепав лучины, возился у очага.
Пушка встретили приветливо, усадили на скамью, и не успел армянин распахнуться и нарадоваться теплу, как и мясо и лук уже оказались в котле, под котлом заполыхало пламя, русичи сели вокруг гостя, и завязалась беседа о хитросплетениях базарных дел.
— Дела такие, что и смех и грех! — рассказывал тверич. — Намедни персиянин жемчугов нам продал задешево, а вчерась прибегал — плачется: Тимур дорогу из Ормузда перекрыл, жемчуга в цене против прежнего возросли впятеро, а пути домой тому персиянину теперь нет. И денег взял мало, и уехать некуда. Молит нас вернуть ему жемчуг за лалы: лалы, мол, индийские, на них цена стойкая на Руси, от лалов прибыли будет не менее, чем от жемчуга, а купец тот жемчуг тут бы сбыл.
— Как дитя! — с осуждением сказал длиннолицый новгородец.
— Мы ему толкуем: ты, мол, купец — что продал, про то забудь, — а он плачется, молит: меняй да меняй. Ну, столковались мы с ним. Нипочем отдает лалы, только б жемчуг назад выручить. Отдали мы ему жемчуг назад, а нонче ходит по базару как очумелый: Тимур пропустил караван из Ормузда через Султанию. Никого не обидел. Через Дербент тот жемчуг сюда провезли, да и всякого иного товару.
— Был слух! — подтвердил Пушок. — Поутру прибыли.
— Прошли через Дербент, и жемчугу опять прежняя цена, никто на него не зарится, а лалов у того купца уж нет, да и ни у кого их нет, — они все тут, у нас…
Москвитин сказал Пушку:
— Надумали мы домой трогаться, пока путь крепок. Не то весной не проедешь по распутице.
— А Едигей… Орда? — обеспокоился Пушок.
— Едигей нонче притих: опасается Тохтамыша, силу на бой копит, русских купцов не трогает, чтобы Москву не сердить, — проедем.
— А я?.. Я в таком случае с вами!
— Да мы что ж?.. — переглянулся с остальными русичами бойкий москвитин. — Кладись с нами. Веселей поедем.
Новые дальние дороги открывались перед Пушком. Азия осталась позади. Впереди ждала армянина хмурая, холодная земля. А ведь как ладно сиделось бы под крепкой кровлей, в густом тепле, у тихого очага за неторопливой беседой. Но добрым товарам не лежится под сводами складов и кладовушек; будто живые птицы, ворочаются они в мешках и коробьях, доколе не дорвутся до торга, доколе хозяева не вспорют брюхо мешкам, не срежут пут с коробьев, — тогда вывалятся товары на вольную волю, купцам на руки, разлетятся по белому свету, по городам и селениям, закрасуются на многом множестве людей, и уж никто не соберет их назад во едино место, ни в мешки, ни в коробья. Не лежится им вместе, не дремлется, манит их дальний путь, толкучий торг, умелая хватка опытных рук. Не лежится товарам, а за ними следом в дорогу тянется и сам купец.