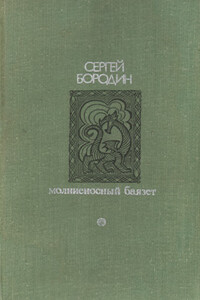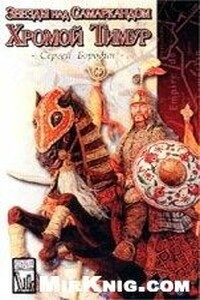— Ну? — строго спросил Тимур. — Македонца почитаешь великим? Этому и царевичей подучиваешь?
— Великим, великий государь, — по указанию пророка божьего…
— Еще раз говорю: я не спорю с пророком. Ему виднее. А вот не вижу, где великие дела этого Искандера Македонца, где след его?
Историк стоял, испуганный словами Тимура; может быть, в них следовало усмотреть богохульство, языческую дерзость, а может быть, в них содержался глубочайший смысл, поелику Македонец хотя и прославлен пророком, но был язычником?
Тимур неожиданно заговорил о другом:
— Я велел прочитать книгу историка… Гияс-адднна. Она тут, у мирзы Улугбека. Читал ты ее?
— Единожды.
— Дважды в ней читать нечего. Понял се?
— Изысканный язык.
— Тем и нехороша. И потом: убивают людей, что ни страница — кровь!
— О ваших мирозавоевательных трудах, великий государь!
— Нехорошо. Надо писать: взят город. Кто умен, тот поймет — город не лепешка, голой рукой его не берут, калекам его не подают. Взяли, — значит, убивали, жгли. Но ведь взяли! Вот и напиши: город взят. А он о дерзости врагов писал, как о подвигах. А о нас — как мы убивали. Вот на, возьми книгу, перепиши ее. Ясным языком, не изысканным. Чтоб каждый понимал. Кровь поубавь. Я сам помню, без книги, где была кровь, где огонь. Мое дело! Возьми, пиши.
— Великий государь! Она написана другим историком. Принадлежит его руке.
Тимур удивленно запрокинул голову:
«И этот упрямится?»
Но историк ему был нужен, и, сдержав гнев, повелитель проворчал:
— Принадлежит его руке? Разве не я хозяин? Он писал мне, я ей и хозяин. Тот писал, теперь ты пиши. Пиши ясней: пиши основу, а не мелочи. Обдумай с умом. Возьми.
Низам-аддин несмело принял из рук Улугбека закрытую книгу и, не раскрывая ее, прижал к себе.
Тимур спросил:
— Этот Двурогий Македонец… У тебя есть книга о нем?
— Есть, великий государь. Ветхий список, но есть.
— Когда тебя кликну, принеси. Почитаешь мне. Чем они ухитрились доказать, что он велик. Я эту книгу слушал, давно. Послушаю снова. Чем велик? А ты иди и думай, думай, а уж потом пиши.
Отпустив историка, Тимур натянул повыше тяжелое одеяло и откинулся на подушки.
Низам-аддин, засунув книгу за пазуху, чтоб оберечь се от сырого ветра, еще нашаривал за дверью свои туфли, а к Тимуру уже вошел воин с вестью:
— Прибыли купцы из Герата. Сказывают, занятный товар привезли.
Ибрагим душевно сказал:
— Что же это? Из-за купцов дедушке не отдыхать, что ли? Надо отдохнуть, купцы подождут до утра.
Никто не смел давать советы Тимуру. Он не терпел, если ему говорили свое мнение, пока он не спросит сам. А тут малыш, такой ягненок, сунулся в дедушкино дело, советует. Надо бы внучонка проучить. Но может быть, Тимур потому и любил бывать среди внуков, что лишь от них иногда перепадало ему участливое сердечное слово, нечаянная ласка, проблеск простой любви. Все остальные люди были обязаны выражать ему свою преданность, и лишь внуки выказывали то, что зрело у них на душе.
Тимур провел костлявой ладонью по прохладной щеке Ибрагима и встал:
— Надо глянуть.
Ибрагим, осмелев, настаивал:
— Ночь, дедушка! Темно. Никакой товар не виден. Утром видней. Посидите с нами. Отдохните у нас, дедушка.
— Отдыхают те, у кого силы иссякли. А кто может двигаться, должен двигаться. Вы-то ложитесь: вам пора. Пойдем, Халиль. Захвати бумагу: может быть, что-нибудь записать понадобится. А вы спите, не ждите Халиля: мы можем долго разбирать товар. Спите, мальчики. Я узнаю, здоровы ли ваши родители в Герате, а завтра вам Халиль скажет, каково им живется, здоровы ли… Спите.
Улугбек удивился: дедушка всегда брал с собой не Халиля, а его, если предстояло что-нибудь записывать. Теперь взял Халиля! Это и озадачило мальчика, и раздосадовало, словно право записывать для деда было навечно присвоено Улугбеку, словно Халиль посягнул на заветное право Улугбека.
Тимур пошел пешком, давя сухие, хрусткие былки бурьяна, невидимые в темноте.
Вскоре он различил гератцев, стоявших у костра, и позвал их.
Гератцы долго топтались у входа, уступая друг другу честь первым последовать за хозяином, ибо каждый из них боялся первым предстать перед ним.