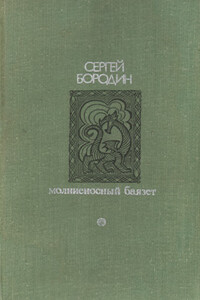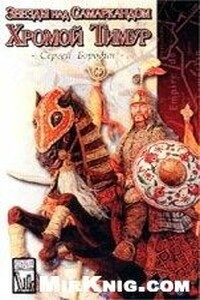Не одна тысяча купцов из страны Тимура вела торговлю с Китаем. Тысячи их проходили со своими караванами той самой дорогой, кочевали на тех же местах, пили воду из тех же колодцев, где еще за тысячу лет до того и за два тысячелетия до того пролегал Великий Шелковый путь от побережий Тихого океана к городам Римской империи, где шли караваны, неся поклажу к берегам Янцзы, встречные — к берегам Тибра. Монгольские орды затоптали дорогу, разломали стены постоялых дворов, завалили грязью колодцы. Шелковый путь затих и зарос полынью, как русло иссякшей реки. Немало договоров заключал Тимур, чтоб расчистить торговый путь от степных разбойников, чтобы снова, как прежде, протянулась древняя дорога от Китайского моря к Адриатике через самаркандский базар, чтобы по краям ее зацвели зачахшие города, — недолго соблюдались договоры, набегали новые орды, сменялись цари и ханы, могучий торговый поток проточил себе другие русла, стороной от земель Тимура, и лишь редкие караваны, как одинокие упрямые роднички, порой сворачивали в это извечное русло между песков и камней.
Все чаще и чаще задумывался Повелитель Мира о новых походах, чтоб возродить Великий Шелковый путь, отвадить от него монголов, подчинить их волю своей воле, а весь Китай взять в свои руки. Здесь, у себя в стане, он держал и потомка монгольских ханов, чингизида Ульджай-Тимура, безропотного, неприметного, копившего в душе своей горечь при виде славы и могущества, которые достаются в удел не ему, а Тимуру. И чем больше побед и почестей доставалось Тимуру, тем крепче ожесточалось сердце Ульджай-Тимура, тем преданнее Тимуру становился он, ибо видел, что лишь милостью Тимура богат, что лишь по его милости в нужное время поднимется над своим народом, чтоб низложить весь тот народ под пяту своему благодетелю.
Но еще много городов покорить, много походов пройти, много битв выдержать надо было Тимуру, прежде чем повернуть свои силы в бесприютные степи монголов и посадить над ними исполнительного слугу, этого Ульджай-Тимура. Держал чингизида при себе, как держал запасных коней, на которых, может быть, и не придется никогда выехать в поле. Лишь изредка Тимур вспоминал о царевиче, посылал ему чашку вина из своего бурдюка или поднос еды со своего пира. Нечастой была такая милость, но чем реже она оказывалась, тем дороже была полузабытому всеми Ульджай-Тимуру. Одиноко мечтал он о раздолье монгольских степей, о своей белой юрте, которую поставит на холме над могилой Чингиза, о Китае, с которого прикажет собирать великую дань по обычаю своих предков, о китайском императоре, которого низвергнет, обесславит, лютой казнью казнит за изгнание из китайских городов монгольских баскаков и властителей. Ульджай-Тимур мечтал одиноко, но тем выше воспарялись его мечты, чем больше стран покорялось Тимуру. Как он усердно стал бы служить Тимуру, как угадывал бы всякое его желание, как жестоко искоренил бы по всем своим ордам всякую неприязнь к Тимуру, всякое своеволие. А там… ведь Тимур смертен! Ведь настанет время, и вся кочевая степь останется одному владыке, гордому чингизиду, царевичу Ульджай-Тимуру! О, тогда он вернется в Самарканд, сам сядет в Синем Дворце, повелит кинуть к его ногам этих ягнят, этих внучат Тимура, изречет им свою волю и, если будет в тот день расположен к милостям, помилует их, поселит их в юртах на краю своего необозримого кочевья…
Тысячи купцов из страны Тимура торговали в Китае, шли туда, приходили оттуда. Не столько шло караванов по былому великому Шелковому пути, как в давние времена, — того уже не было, но торговля шла, и среди тысяч купцов было немало таких, что в потайных складках халатов скрывали бронзовые пайцзы Тимура, открывавшие доступ в его высокое становье.
Теперь явились сюда двое из них, и Тимур ждал, что они ему принесли.
— Великий государь! Милосердный господь пресек земные дела китайского царя.
Тимур встрепенулся:
— Умер?
— Милосердный господь призвал его, чтоб злодей дал отчет в совершенных…
Тимур прервал бухарское велеречие:
— Давно?
— Второй месяц, как…
— Где ж вы плелись, почему не сразу мне…