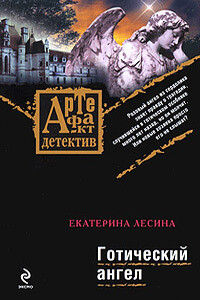Время от времени кто-либо из жильцов дома, либо же родственников, либо и вовсе случайных знакомых, прознавших про пустующее жилье, принимался строить планы по захвату территории, собирал справки, подписи, строчил петиции и доклады, но все усилия оказывались тщетны – пятая квартира хранила верность отсутствующим хозяевам. И вот они вернулись.
– Вот посмотрите, – шептала Федина Клавке. – Сейчас пообживутся и на шею сядут. Элька-то та еще фифа, мужем крутит, как хочет. А он – ну точно бревно.
– Погляди-погляди, – журчала она на ухо Маньке. – Скоро устроятся, начнут нас выселять. А что, дом-то непростой, а где одна квартирка из особых, там и другая, и третья...
И Клавка, и Манька соглашались. Ворчали, высаживая вместо раздавленных петуний новые, привезенные с дач и уже цветущие. Вздыхали, глядя, как те сохнут, несмотря на полив и заботу. Вежливо здоровались с новой соседкой, подсматривали за детьми.
Те почему-то очень редко появлялись во дворе, хотя Клавкин супруг качели соорудил, а Манькин о песочнице заикнулся, по-простому, по-соседски. Оказалось: без надобности.
Детей жалели. Элегантную Эльку осуждали, а к Вацлаву Сигизмундовичу относились с почтительным уважением, особенно после того, как в доме крышу отремонтировали, причем сделали это быстро и на удивление хорошо. Верно, не обошлось без звоночка сверху.
В общем, постепенно к соседям попривыкли, перестали обращать внимание, позабыли и про детей, и про петунии, вернулись к былым проблемам и развлечениям. И только Федина все не находила сил успокоиться. Она высматривала, прислушивалась, собирала осколки сплетен, обрывки разговоров, мечтая, как в один прекрасный день из пятой квартиры исчезнет красавица-Элька, а освободившееся место – достойное, хозяйское и, что гораздо важнее, материнское, займет она, Анжела Федина.
Она опасалась говорить об этих мечтах вслух, не потому, что муж услышит – его уже давно ничего не интересовало, кроме пива-водки-футбола-шашек в соседнем дворе – боялась Федина иного: открой рот и подслушает кто-то безымянный, безызвестный, а подслушав, извратит сказанное так, что в жизни не сбудется. А если и сбудется, то на горе.
Так оно и вышло. День, когда не стало Эльки, был премерзостным: с самого утра рядил дождь, сбивая с клена лопухи желтых листьев, просачиваясь сквозь рамы и разливаясь по подоконнику грязной лужицей, в которой плавали мелкие щепочки и пылинки. Пришлось тряпку класть и отжимать каждые полчаса, и материть супружника – у нормального мужика, небось, окна не текут.
С водой она боролась до серых сумерек, а потом бросила, села у окна, пнула сердито ведро с водой, скинула на пол скрученное жгутом полотенце и уставилась на улицу. Думалось о судьбе, о жизни, о том, что в свои тридцать три она достигла всего, чего хотела, и дальше остается и не жить, а тихо стареть на работе ли, среди тетрадок, учебников и чужих детей, которые в отличие от Милочки не вызывали иных чувств, кроме раздражения. Или же дома в бесконечной уборке-стирке-утюжке-готовке. Замкнутый круг, нарисованный ею для себя, был столь ужасающе реален, что Федина заплакала.
А потом плотную мглу прорезали фары, сначала одного автомобиля, потом другого. Полосы света пересеклись и легли во дворе огромным желтым крестом, в центре которого вырисовалась урна. Из машин вышли люди, спустя долю мгновенья громко хлопнула дверь в подъезде, и по лестнице застучали каблуки. Громко. Страшно. Упреждающе.
Федина замерла. Она, не верящая в предчувствия, вдруг отчетливо поняла – случилось. Что и с кем? Где и когда? Не важно, главное, случилось. Главное, теперь ей жить иначе.
Смолкли шаги и секундную тишину, в которой единственным звуком было лишь звонкое хлюпанье стекающих с подоконника капель воды, нарушил звонок.
На пороге, в раскрытом плаще, мокром и мятом, сжимая в руках фуражку, переминался с ноги на ногу молодой милиционер.
– А вы кем Федину Ивану приходитесь? – спросил он.
Похолодело. Скрутило тугим узлом внутренности, а губы сами выдохнули:
– Женой...
Милиционер молчал, вглядываясь в заплаканное лицо Анжелы, а потом, облегченно вздохнув, сказал: