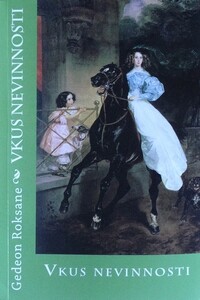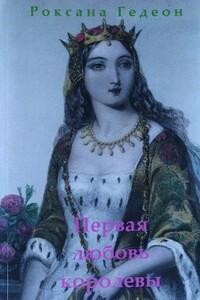Дверь отворилась.
— Ее величество ждет вас, донна Сюзанна.
Я вошла. Это действительно была спальня — огромная, роскошная, освещенная множеством свечей, со стенами, обитыми шелком мягких тонов. Живописный плафон украшал потолок. А еще я увидела картины — Джотто, Караваджо… Здесь, похоже, все увлекались живописью — таков уж Неаполь.
Властный женский голос, раздавшийся из-за шелковой ширмы, заставил меня вздрогнуть.
— Подайте мне духи и оставьте меня наедине с донной Сюзанной.
Потом королева добавила по-немецки:
— Вы, Шарлотта, тоже свободны.
Из-за ширмы вышли три или четыре девушки — аккуратные и все, как одна, очень юные и хорошенькие. Поклонившись мне, они бесшумно покинули спальню. Снова раздался голос, говоривший по-немецки:
— Донна Сюзанна, мы просим вас подойти.
Снова это «мы»! Что за манера разговора? Облегченно вздохнув по тому поводу, что, к счастью, поняла немецкие слова, в которых разбиралась весьма слабо, я зашла за ширмы. И замерла.
Обнаженная Мария Каролина полулежала в великолепной ванне из розового каррарского мрамора, наполненной водой и душистой мыльной пеной, — вода благоухала самыми немыслимыми обволакивающими ароматами. Пребывая в крайнем замешательстве, я пробормотала:
— Ваше величество… удобно ли?
— Мы же женщины, — ответила она по-немецки. — Мы свои, не так ли? Садитесь!
И она указала мне рукой на мягкий пуф рядом с ванной.
— Разве моя сестра не делала так в вашем присутствии?
— Я была ее фрейлиной, — сказала я с трудом, ибо говорила по-немецки еще хуже, чем понимала.
— Фрейлиной моей сестры — значит, вы почти родная мне.
Заметив мое замешательство, она пристально взглянула на меня.
— Вы не владеете немецким, не так ли?
— Да, мадам, — призналась я честно.
— Странно! — сказала она, переходя на итальянский. — Вы были близкой подругой моей несчастной сестры, и она не научила вас?
— Ее величество научила Габриэль де Полиньяк немецкому, а я оказалась не столь толковой. К тому же… я слишком молода, мадам, чтобы иметь право считать себя настоящей подругой Марии Антуанетты. По-видимому, она относилась ко мне не как к подруге, а как к дочери… или как к младшей сестре, если это не звучит слишком самонадеянно.
— Полноте! Тони любила вас. Я знаю.
Обтирая белые плечи душистой губкой, она произнесла:
— Итак, будем говорить по-итальянски.
— А почему не по-французски? — улыбнулась я.
— С тех пор как французы убили мою сестру, я больше не говорю по-французски. Мне кажется, у меня отнимется язык, если я произнесу французское слово… Несчастная Тони!
Она некоторое время молчала, задумавшись, а я глядела на нее, не переставая удивляться, до чего эти сестры похожи. Вот если исключить лицо, они были бы просто одинаковы… Мария Каролина обладала прекрасным телом; созерцая эту белую нежную кожу, стройные ноги, покатые плечи, безупречной формы руки, трудно было поверить, что эта женщина — мать стольких детей… и что ей уже сорок лет.
Мария Каролина подняла голову и улыбнулась, показав ряд белоснежных зубов:
— Вы ведь не сердитесь на моего мужа, не так ли? Он просто бедный глупец, на него не следует сердиться. Он не понимает, что творит.
Я молчала, полагая, что поддерживать или отвергать подобное мнение будет в равной степени нелепо. Королева продолжала:
— Я привыкла к нему. Это было трудно, но за четверть века супружества я привыкла. И теперь все в порядке. Обычно я стараюсь ему не мешать. Но вы — совсем другое дело. Я не могла дать в обиду женщину, которую любила моя сестра.
— Как вы вчера оказались в саду лорда Уильяма, мадам?
Она загадочно улыбнулась:
— Мне безумно хотелось увидеть леди Эмму.
Низкие, волнующе-страстные нотки в голосе королевы заставили меня изумленно поднять голову. Глаза королевы были мечтательно полузакрыты, на чувственных губах светилась улыбка.
— Будьте добры, донна Сюзанна, передайте мне пеньюар, — сказала она наконец.
Я подала ей белый шелковый пеньюар, оставленный камеристками, и Мария Каролина, чтобы надеть его, без всякого стеснения поднялась из ванны. Знаком пригласив меня следовать за ней, она пошла к туалетному столику. Взяв серебряную щетку, стала расчесывать волосы.