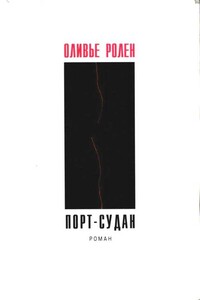Тишину этой бесконечно длинной, накаленной солнцем улицы нарушало лишь надсадное тарахтенье тонги. Казалось, все кругом было погружено в сон. Даже деревья, неподвижно темневшие вдоль тротуара, свесили чуть не до земли свои пышные ветви. И лишь изредка в их поникшей листве слышались сонные трели:
— Чи-чи-чи-чи… тьюррр! Чи-чи-чи-чи… тьюррр!
Прикрутив вожжи к облучку, Судха Синх лег ничком на переднее сиденье и закрыл глаза. Он знал, что лошадь и сама довезет его до стоянки у вокзала. И сразу его мысли унеслись куда-то далеко-далеко. Он увидел перед собой шелестящую листву мангового дерева — того самого, которое он посадил когда-то с такой любовью посреди дворика в далеком Паттоки — маленьком городке, отошедшем к Пакистану. Там он много лет подряд снимал за девять рупий в месяц неказистый домишко и так к нему привык, что считал его уже своей собственностью. Его молодая жена Хиран, бывало, говорила ему: «В чужом саду и роса чужая», — но он только смеялся в ответ. Разве мог он тогда знать, что все его благополучие рухнет в одну ночь и не останется у него ничего, кроме рубашки да старенького дхоти?
Сейчас его дерево, наверно, густо увешано сочными желто-зелеными плодами… В тот роковой год Судха Синх впервые отведал их. Они еще не дозрели и вязали во рту, но он ел и смаковал каждый кусочек: ведь это были первые плоды с дерева, которое он сам так заботливо растил!
— Ну, что, очень вкусно? — смеялась Хиран.
— Ничего-то ты не понимаешь! — отвечал он. — Ведь это же совсем особенные манго — наши собственные!..
И подхватив жену на руки, он пустился в пляс вокруг мангового дерева.
Но в тот самый день, когда плоды созрели, по городу прокатилась первая волна погромов и улицы Паттоки обагрились кровью. А в следующую ночь толпа пьяных громил ворвалась в их переулок. Когда под ударами кольев затрещала дверь их хижины, Судха Синх вскочил с чарпаи[27], поднял на руки сонную жену и бросился к окошку. Он прыгнул первым и протянул ей руки, но Хиран испугалась высоты и не решалась прыгать. Миг — и чьи-то руки схватили ее за горло… Судха Синх до сих пор не может забыть тот дикий вопль, с которым она скрылась в черном квадрате окна…
Все, что произошло потом, похоже на кошмарный сон. Черная, как сажа, темнота, черное вспаханное поле, по которому он бежит, падает, задыхается… И под утро, как луч спасения, холодный блеск железнодорожных рельсов у полустанка. Он лежит на песке насыпи, голова его словно налита чугуном, и он ничего не чувствует, кроме тугой боли во всем теле…
А потом — мятущиеся толпы беженцев, перроны, забитые людьми, билеты, купоны, бланки, продовольственные карточки…
И еще — бесчисленные анкеты…
«Имя? — Судха Синх.
Отец? — Микхла Синх.
Каста? — Кшатрий.
Земельные владения, недвижимая собственность? — Не имею.
Наличные деньги? — Не имею.
На какую сумму предъявляете иск о возмещении понесенных убытков?..»
Что мог он ответить на этот вопрос? Ведь единственным его достоянием было выращенное им манговое дерево, чьи плоды довелось ему отведать только раз, дерево, под сенью которого думал он мирно прожить с любимой женой до конца своих дней…
И Судха Синх делал жирный прочерк в этой графе.
В их домике всегда держался какой-то особый, только ему свойственный запах — запах родного очага. Им было пропитано все — от занавесок на окнах и до последней соринки. Где он теперь, этот запах?
Где теперь те летние ночи, когда он, лежа во дворе на веревочной сетке чарпаи, глядел в усыпанное звездами бездонное небо?
И где все мечты и надежды, которые он в те дни лелеял в своем сердце?
— Хиран, скажи-ка, кого ты подаришь мне раньше — сына или дочку? — спрашивал он жену.
— Ой, постыдился бы говорить такое! — смущалась Хиран и закрывала концом сари зардевшееся лицо.
— Ну, если не хочешь отвечать, я и сам скажу. Сперва у тебя родится девочка… Потом два мальчика-близнеца… А потом опять девочка…
— Помолчи! Не болтай попусту!..
— Младшая дочка, — продолжал он, словно не замечая, как смущается жена, — будет красивее всех. У нее, как и у тебя, будут мягкие, шелковистые волосы, такие же большие-большие черные глаза и такая же родинка на шее…