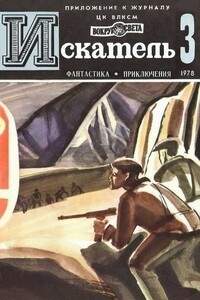Значит, и Заргарьян с Никодимовым и я одинаково участвовали в одновременном течении каких-то параллельных, нигде не пересекавшихся жизней. Сколько их — две, пять, шесть, сто, тысяча? И где протекают они, в каком пространстве и времени? Вспомнилась Галина беседа с Гайдом о множественности миров. А если это уже не фантастическая гипотеза, а научное открытие, еще одна разгаданная тайна материи?
Но разум отказывался принять это объяснение, тем более мой разум, не тренированный в точных науках. Я мог только посетовать на ограниченность нашего гуманитарного образования: что даже просто поразмышлять, подумать об открывшейся мне проблеме у меня, как говорится, не хватило умишка.
В таком состоянии меня и застала Галя, забежавшая к нам по дороге на работу. Еще вчера вечером она узнала от Ольги, что я отправился с визитом к Заргарьяну, и ее буквально распирало желание узнать, нашел ли я ключ к разгадке.
— Нашел, — сказал я, — только повернуть его в замке не могу. Силенок не хватает.
Я рассказал ей о кресле в лаборатории Фауста и о трех увиденных «снах». Она долго молчала, прежде чем спросить:
— Он постарел?
— Кто?
— Олег.
— А что ты хочешь? Двадцать лет прошло.
Она опять задумалась. Я боялся, что личное заслонит в ней любопытство ученого. Но я ошибся.
— Интересно другое, — сказала она, помолчав. — То, что ты увидал его постаревшим. С морщинами. Со шрамом, которого не было. Невозможно!
— Почему?
— Потому что ты не читал Павлова. Ты не мог видеть во сне того, чего не видел в действительности. Слепые от рождения не видят снов. А каким ты знаешь Олега? Мальчишкой, юнцом. Откуда же морщины сорокалетнего человека, откуда шрам на виске?
— А если это не сон?
— У тебя уже есть объяснение? — быстро спросила Галя.
Мне даже показалось, что она догадывается, какое именно объяснение кажется мне самым вероятным и самым пугающим.
— Пока еще только попытка, — нерешительно отозвался я. — Все пытаюсь сопоставить мою историю и эти «сны»… Если Гайд мог сыграть такую штуку с Джекилем, то почему бы им не поменяться ролями?
— Мистика.
— А ты помнишь свой разговор с Гайдом о множественности миров? Параллельных миров, параллельных жизней?
— Чушь, — отмахнулась Галя.
— Ты просто не хочешь серьезно подумать, — упрекнул я ее. — Проще всего сказать «чушь». О гипотезе Коперника тоже так говорили.
Гипотезой Коперника я ее не сразил, но над моей гипотезой заставил задуматься.
— Параллельные миры? Почему параллельные?
— Потому что нигде не пересекаются.
Галя откровенно и пренебрежительно рассмеялась.
— Не сочиняй научной фантастики — не получится. Непересекающиеся миры?
— Она фыркнула. — А Никодимов и Заргарьян нашли пересечение? Окно в антимир?
— Кто знает? — сказал я.
А узнал я об этом через два часа в лаборатории Фауста.
Честно говоря, я шел сюда, как на экзамен, с той же внутренней дрожью и страхом перед неведомым. Еще и еще раз я перебрал в памяти сны, виденные во время опыта, — по привычке я их так и называл, хотя уже окончательно пришел к мысли, что сны эти были совсем не снами, — сопоставил все напрашивавшиеся на такое сопоставление детали, систематизировал выводы.
— Отрепетировали? — весело спросил встретивший меня Заргарьян.
— Что отрепетировал? — смутился я.
— Рассказ, конечно.
Он видел меня насквозь. Но злость во мне тут же подавила смущение.
— Мне тон ваш не нравится.
Он только хохотнул в ответ.
— Выкладывайте все, что вам не нравится. Магнитофон еще не включен.
— Какой магнитофон?
— «Яуза-десять». Великолепная чистота звука.
К вмешательству магнитофона я подготовлен не был. Одно дело просто рассказывать, другое — перед магнитофоном. Я замялся.
— Садитесь и начинайте, — подбодрил меня Никодимов. — Вы же оставляете след в науке. Вообразите, что перед вами хорошенькая стенографистка.
— Только без охотничьих рассказов, — ехидно прибавил Заргарьян. — Пленка сверхчувствительная с настройкой на Мюнхгаузена: тотчас же выключается.
Я по-мальчишески показал ему язык, и моя скованность сразу пропала. Рассказ я начал без предисловий, в свободной манере, и чем дальше, тем он становился картиннее. Я не просто рассказывал — я пояснял и сравнивал, заглядывал в прошлое, сопоставлял увиденное с действительностью и свои переживания с последующими соображениями. Вся напускная ироничность Заргарьяна тотчас же испарилась; он слушал с жадностью, останавливая меня только для того, чтобы переменить катушку. Я воскрешал перед ними все запечатлевшееся в лабораторном кресле: и ярость Елены в больнице, и перекошенное злобой лицо Сычука, и неживую улыбку Олега на операционном столе, — все, что запомнилось и поразило и поражало даже сейчас, когда я передавал магнитофонной пленке еще живое воспоминание.