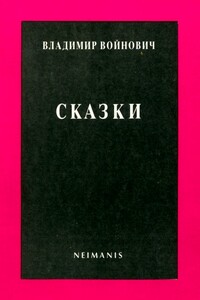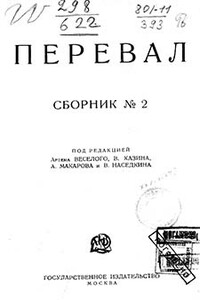— Родина просит вас не поддаваться ни на какие уловки,— говорили коминтерновцы иа заседании лагерного комитета. — Требуйте отправки домой только через Петроград, и вы увидите, они на это не согласятся.
От имени двадцати тысяч военнопленных комитет заверил: какие бы тяготы ни выпали на их долю, они не вступят в ряды контрреволюции, не поднимут оружие против народа, не согласятся на возвращение через занятые интервентами и белогвардейцами районы.
Заседание комитета проходило в лагерном клубе, устроенном пленными в одном из бараков. Над сценой — срисованный с открытки портрет Ленина. Такую карточку хранили многие узники лагеря. Была она и у Мальцева. Он пронесет ее через все преграды. сбережет на всю жизнь.
Предупреждение оказалось своевременным. Через несколько дней в лагерь зачастили благотворительные миссии Красного Креста: американцы — с подарками, священнослужители — с сочувствием и наставлениями, белогвардейские офицеры — с уговорами и призывами. К одному клонили — путь на родину лежит только через «освобожденные» от большевизма районы.
— Отправляйте в Петроград — стояли непоколебимо военнопленные.
Американцы поторопились покинуть лагерь — подарки летели им вслед. Белогвардейцы бежали под свист и улюлюканье многотысячной толпы. Священника, исподволь сколотившего вокруг себя согласных ехать в «самостийную» Украину, ночью раскачали и перебросили через забор.
В лагере издавалась нелегальная газета «Лагерная правда», рассказывавшая отторгнутым от родины рабочим и крестьянам о молодой Республике Советов, о контрреволюции и ее вдохновителях, о солидарности пролетариев всех стран, громко заявивших: «Руки прочь от Советской России!»
Печаталась «Лагерная правда» на шапирографе, приборе, предназначенном для размножения рукописных оттисков. Готовил газету к печати Терентий Мальцев. Просиживая ночи напролет, он при свете «летучей мыши» специальными чернилами выписывал букву за буквой весь номер будущей газеты.
1 февраля 1920 года Мальцев одним из первых вступает в Русскую секцию при Коммунистической партии Германии и получает от партийного комитета лагеря удостоверение под номером восемь. Он сразу же становится активным членом партии; продолжает писать газету, участвует в организации рабочих команд, поддерживает связь с комитетами других лагерей, нелегально, пользуясь «аусвайсами» — увольнительными и командировочными удостоверениями,— ездит по помещичьим усадьбам и заводам, где работали русские военнопленные, встречается с председателем коммунистической организации Кведлинбурга Станиславом Мюллером и секретарем этой организации Карлом Шуманом, развозит газеты и другую революционную литературу, организует коммунистические ячейки в рабочих командах.
Сам Мальцев то на фабрике в Кохштадте работал, то дворником в курортном местечке Алексисбад. А его тянуло в поле, землю пахать, хлеб сеять, растить и убирать. Он просился на сельскохозяйственные работы,— сам такие команды комплектовал! — но партийная ячейка посылала его туда, где он, активист, был нужнее.
Мальцев жадно присматривался ко всему, что делалось на полях Германии. В такие минуты он забывал, что находился в неволе, забывал про тоску свою и страдания — любовался культурой земледелия и высокими урожаями.
Да, прав был художник (Мальцев вспомнил рисунок из довоенного календаря), нарисовавший немца с большим снопом пшеницы под мышкой, а русского мужика — с несколькими колосками, которые он, отощавший от голода и тяжкой работы, прижал к груди. Картинка эта делала наглядными цифры, приведенные в календаре: в среднем за десятилетие Россия перед войной намолачивала с десятины по 42 пуда, а Германия—по 121 пуду.
Еще тогда, дома, Терентия Мальцева поразила эта трехкратная разница. Поразившись, он начал допытываться у отца, сколько же раньше мужики намолачивали.
В среднем намолачивали, как и подтверждала официальная статистика, по 42 пуда. В три раза меньше, чем в Германии.
— Так там, сказывают, земля куда жирнее нашей,— отвечал отец на бесконечные вопросы сына. Вопросы эти вызывали в нем досаду: что родится, то и наше, вот и весь разговор.