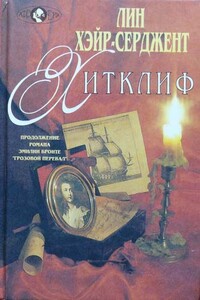Третье января 1844 года. Письмо, написанное шестьдесят лет назад человеком, которого уже почти сорок лет нет в живых! Могла ли я вообразить, покидая новогодним днём Брюссель, что именно оно, а вовсе не горькие воспоминания о месье Эже, будет занимать мои мысли на пути домой.
Ибо месье — и только он один — был властителем моих дум всё долгое время моего учительства в «Пансионате Эже». Он один удостаивал меня улыбки или дружеского приветствия; остальные — и преподаватели, и воспитанницы — сторонились меня, следуя примеру мадам Эже, и в конце концов окружили ледяным молчанием, от которого я коченела в своём дальнем закутке дортуара. Лишь один друг на этом ледяном континенте иногда согревал меня тёплым словом. Столь краткая оттепель, а в последнее время и столь редкая! Мадам ревновала; мадам хотела избавиться от английской учительницы; мадам всегда добивалась своего.
Я полюбила, он был женат. Теперь неважно. Мы разлучены, вероятно — навеки. Мы не обменялись ни единым нежным словцом; никаких чувств, кроме тех, что уместны между учителем и ученицей (а он научил меня многому), мы не выказывали никогда. Мои переживания остались невысказанными и неразделёнными. Я научилась хранить бесстрастное выражение лица, губы мои не дрожали, глаза оставались сухими.
Я ещё молода, но мои юность и все связанные с ней трепетные надежды похоронены в Брюсселе.
Домой я увозила только тоску. Она стояла в горле, словно комок, она мучила, душила, мешала есть и пить. Эту тоску я не могла поведать даже самым близким людям. Выскажи я открыто свои страдания, я бы испугала тех, кого люблю. Тот чистый образ, который они хранили в своей памяти, был бы разрушен.
У меня две сестры, одарённые состраданием. Они не ханжи, они искренне преданы мне, и всё же они не поняли бы, не извинили моей беззаконной любви. Нет, горю одному могу я поверить душу, оно одно будет моим спутником и утешителем на моём одиноком пути — пути паломника, оставившего семейный очаг и уютное ложе, чтобы брести по кручам и теснинам лежащих впереди гор.
Итак, в Новый год я рассталась с любимым и села в Антверпене на пакетбот. Ступив на английскую землю, я прямиком отправилась на вокзал через шумные улицы Лондона. Два года назад, когда я впервые попала в столицу, бурный людской поток показался мне бодрящим и живительным. Тогда я впервые почувствовала в себе бьющие через край жизненные силы, — и всё прежнее существование представилось приятным сновидением. Теперь же я двигалась по лондонским улицам, как сомнамбула; как сомнамбула прошла через огромный пустой вокзал и заняла место в купе. Я старалась ничего не замечать; образ утраченного Учителя ещё стоял перед моим мысленным взором, и я желала сберечь его, не дать новым впечатлениям вытеснить милый идеал.
О, мой Учитель! С каким почтением и любовью произношу я эти два слова! Я, в своей английской гордости поначалу не желавшая величать этим принятым в Европе титулом простого смертного, со временем охотно называла так Учителя Эже.
Всегда подвижный, то строгий, то весёлый, он и впрямь был учитель милостью Божьей. Однако не его обаяние покорило меня — о нет, то было явление иного порядка, свойство, которое восхищает многих, нечто глубоко личное и исключительно драгоценное — он умел заставить меня стать самой собой. Молчаливая, неуклюжая, скучная (полагаю, такой меня и видит большинство людей), с ним я преображалась, казалась себе находчивой, остроумной, оживлённой. Учитель. Могу ли я назвать его иначе? И неудивительно, что я так цепляюсь за воспоминания — всё, что мне осталось.
Внезапно туман воспоминаний рассеялся, и мысли мои вернулись в купе. Поезд тронулся, и мир, представленный железными рельсами, семафорами и редкими снежинками, поплыл за темнеющим окном. Паровоз пыхтел всё чаще и чаще.
Я была не одна. Напротив, ближе к выходу, сидела седенькая старушка. Она размеренно кивала головой в такт мельканию вязальных спиц. (Вероятно, именно ритмичное позвякивание её спиц в сочетании со стуком колёс и мерным покачиванием вагона вывело меня из задумчивости.) От старушки моё внимание незаметно переключилось на другого пассажира — седовласого господина с ухоженными усами, одетого в дорогой, но строгий костюм, какие носят в последние месяцы траура. Он очень тихо сидел у окна, сложив руки в серых перчатках на массивном набалдашнике прогулочной трости. Взгляд его был устремлён в невидимую точку за окном.