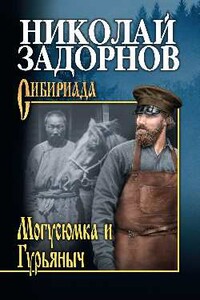Не приходит, – значит, струсил чего-то, хотя, как и все хэдские, не робкого десятка.
В деревне говорят – русские осквернили храм.
Пьющий Воду встретил на днях Янку Берзиня, зазвал к себе в сакайя, угостил и растолковал, что теперь все боятся. Хотя никто не верит, что виноваты русские. И что-то еще говорил очень таинственное и страшное, чего Янка не смог понять без толмача. А переводчики, как известно, все шпионы.
– Пошли! – решил Гошкевич. – Но по дороге зайдем в лагерь, попроведаем моего Прибылова!
Наши в лагере так и живут, и несут службу, и ходят в секреты на горы, как где-нибудь в гарнизоне на Черноморском побережье!
– Долго японцы были уверены, что он прячется. Но теперь решили, что адмирал увез с собой.
Казак Дьячков, служивший у Невельского в крепости на Южном Сахалине и понимающий по-японски, приносит новости. Кое-что узнает отец Василий. У Гошкевича много знакомых японцев, и они бывают откровенны.
Вечерами Осип Антонович проводит с Точибаном часы, они занимаются в лагерном лазарете. В Хосенди не встречаются, там всегда много японцев, могут приметить. Они наблюдательны и догадливы. Теперь Точибана приходится скрывать и сохранять особенно тщательно.
– Как он?
– Мрачен стал, – ответил Гошкевич. – Мы сами затянули дело. Много характера надо, чтобы вытерпеть такое сидение под караулом. – Гошкевичу не раз казалось, что друг его Точибан тоскует и раскаивается, может быть, не прочь был бы переменить решение и остаться, но уж поздно.
Монах в нашей форме сидит в углу, поджал ноги, и широкое лицо его, как каменное. Приоткрыл глаза, но не сразу овладел собой и нашел силы для приветливой улыбки и выражения радости. С тех пор как скрылся под защиту моряков, стал тише. Выглядит пришибленным, жалким, словно не рад своему спасению.
Гошкевич поговорил с ним, спросил, учит ли русскую азбуку.
– Да! – ответил Прибылов охотней.
– Ко всякому делу способен, да не всегда душа лежит! Крепки они во всех своих предрассудках двухсотлетнего воспитания!
Из лагеря зашли к Пушкину, который теперь занял квартиру адмирала в Хосенди, а потом и в канцелярию бакуфу. Там полно чиновников.
Уэкава встретил вежливо, но не глядя в глаза. Этак бывает и у нас. Чиновник был хорош, а вдруг отвернется, едва войдешь к нему, избегает говорить. Обычно означает, что дошла какая-то сплетня или донос или чего-то сам придумал и заранее струсил.
Ябадоо ответил на поклон и объяснил, дружески смеясь, что кто-то нагадил на алтарь в шинтоистском храме, на косе, и есть следы русских морских сапог.
– Что их слушать! Так и будут нам глаза колоть! – сказал Елкин.
«Экая мерзость! – подумал Алексей. – Они опять про то же!»
Оказывается, надо об этом написать отчет. Узнали в Эдо, требуют подробностей. Уэкава не может винить русских матросов, но и не может доказать их невиновность. Поэтому он в тупике.
– Но отчет, верно, должен об этом писать новый дайкан, молодой Эгава, а не вы, Деничиро-сама? – ответил Гошкевич.
Уэкава на миг смутился, тут же закивал головой и улыбнулся:
– Да... да...
– Толку не добьешься, – молвил Елкин. – Пошли в лес!
Ябадоо загадочно смеялся и кланялся. Не то над ними, не то над хитростями своих.
– Пушкин предлагал вам назначить комиссию для расследования. Что же вы? Поручик Елкин и Шиллинг в тот же день ходили обследовать остатки уже затоптанных вами следов. Оказалось, сапоги – оба правые. Такие были у Букреева. А когда он наелся ягоды и умер, их кто-то стащил. Значит, это сделали не наши. Вот об этом и напишите, пожалуйста, в Эдо. Нижайше просим быть порядочными людьми. Это хитрость очень глупая и легко распознается. Мы вам об этом уже говорили, Уэкава-сама. Пушкин объяснялся с новым дайканом – молодым Эгава.
Плотник Оаке, когда-то выброшенный ударом ноги из канцелярии бакуфу, на днях сказал матросам, что нагадили сами метеке. О происшествии сразу заговорил весь лагерь. «Следы краденых сапог, братцы!» – толковали в казарме.
– Значит, шла подготовка к чему-то, чего мы сами не знаем и не ведаем! Наши друзья, как Нода, стали нас бояться, – сказал Сибирцев, выходя из канцелярии.
– Что значит «не знаем»! Этого и надо властям, чтобы все нас боялись, чтобы хорошая память о нас была бы вычеркнута навсегда, – ответил Гошкевич. – Видимо, заметили, что слишком приветлив с нами простой народ. Вот и надо отбить охоту, отвратить простонародье. И так будет впредь даже с отдельными людьми, которые произведут хорошее впечатление. Поверьте мне! Еще и вслед пустят, прицепят к хвосту.