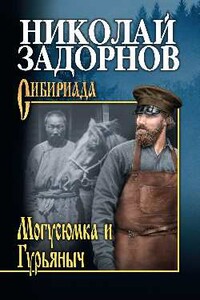Несся сплошной топот ног и перешлеп ладошек, словно заплескались тысячи мелких звонких волн.
Таракашка на бегу,
а старикашка на ходу... –
пели плясуны, минуя Глухарева.
Эх, Тула, чтоб те вздуло...
...Ой, ой, не могу,
ступил комар на ногу,
все суставы перешиб...
Тут же Аввакумов. Он разглаживает степенно усы и тоже корячится, пританцовывая слегка.
Молоденькие японки сбегали на свой корабль и, возвращаясь с кувшинами сакэ, наливали чашечки и с поклонами предлагали матросам.
Пляска прекратилась, и все столпились вокруг девушек.
– Поздно вас прислали!
– Завтра уходим!
– Ты? – вдруг воскликнул Сизов.
Перед ним была Фуми, та девушка, с которой он встречался в деревне Миасима, где матросы жили после гибели «Дианы».
– Петя! – сказала она по-русски.
– Так, значит, и тебя? – сказал Сизов.
– Петя! – повторила японка. – Этого забыть нельзя!
«Я ее погубил», – подумал матрос.
– Теперь повидаешься с ней! – сказал Сидоров.
За одну встречу с матросом ей придется теперь прожить в доме терпимости всю жизнь! Жена губернатора Симода, спасенная от смерти во время цунами Петром Сизовым, устроила Фуми и Петру встречу в городе, перед тем как послать девушку в публичный дом. Все было богато: и еда и постель, да сами-то Фуми и Петя не прикоснулись друг к другу, чуть не плача с горя.
Девицы, подруги Фуми, обступили Петра, заглядывая на него снизу вверх, смеялись, трогали его руки и усы.
Фуми подала матросу глиняную чашечку с водкой. Девушки дарили Сизову цветы, как прославленному герою.
Выскочил боцман с бинтом на голове, ударил в бубен и заработал ногами.
– У Терентьича еще одно ухо есть...
– Еще может драться, – сказал Глухарев.
– Теперь корноухий!
Вечером компания старших унтер-офицеров собралась в зале публичного дома.
– Тепло и весело! – говорил довольный Аввакумов.
– И никто не ревнует! – подтвердил Глухарев.
На рассвете вся команда в истрепанных парусинниках, как волны яркой белизны, заполнила стройными рядами истоптанную площадку среди лагеря, где ни цветочка, ни кустика и вокруг, как двор пересыльной тюрьмы, частокол из бамбуков и кедровых кольев. Сто пятьдесят уходящих во главе с Лесовским стоят лицом к лицу с четырьмястами остающихся во главе с адмиралом.
– Товарищи! Братцы! Настал час возвращения на родину! – заговорил Евфимий Васильевич.
...На прошлой неделе списки зачитаны. Все уходящие знают, собрались уже давно. Разговлялись, христосовались, веселились и вот дождались дня, которого ждали. Но как ни ободряет адмирал, а что-то очень тоскливо. Одним тяжко уходить и оставлять товарищей на произвол судьбы. Другим тяжко отпускать друзей, с которыми сжились крепко, как срослись в одно тело.
– Братцы, поклянемся остаться единой душою, куда бы всех нас ни бросала судьба! С честью пойдем на врага, – говорил адмирал. – Мы встанем в ряды защитников отечества. В Севастополе идут кровавые бои...
«Все кончается. Скоро и мы спустим шхуну! – думал Сибирцев. – Прощай, Япония... А за вами, друзья, пойдем и мы. Кто-то из нас погибнет... не поэтому ли так тяжко расставаться? Враги нас в море ждут! Адмирал прав!»
– Прощайте, братцы! Вы идете на войну. С честью и славой... – в тишине отчетливо и гулко голос адмирала раздавался по всей Хэда, как на параде. – Прощайте, товарищи, с богом! – закончил свою речь адмирал.
– Ура-а! – грянул весь лагерь.
Загрузка корабля закончена. Наступает неотвратимый час прощания.
Заиграл оркестр. Белые колонны уходящих и остающихся зашагали под марш из лагеря. Опять шел Путятин, и все видели его.
Оркестр стих. Запели моряки.
Дело было под Гангутом,
дело славное, друзья...
Вышел флот наш
в бой кровавый
с славным знаменем Петра...
«У меня сердце разрывается. Я больше не могу выдержать!» – думал Ябадоо и прослезился.
В последние минуты офицеры и матросы, уходящие и остающиеся, обнимались и прощались, расходились и вдруг, как в полубезумье, снова кидались в объятия друг друга. Слышались мужские рыдания, и слезы выступали у гордых, усатых и смелых воинов, которые так величаво, с грозным пением вступали еще недавно в эту деревню.
– Прощай, Америка! – крикнул, кидая вверх шапку, корноухий боцман Черный.